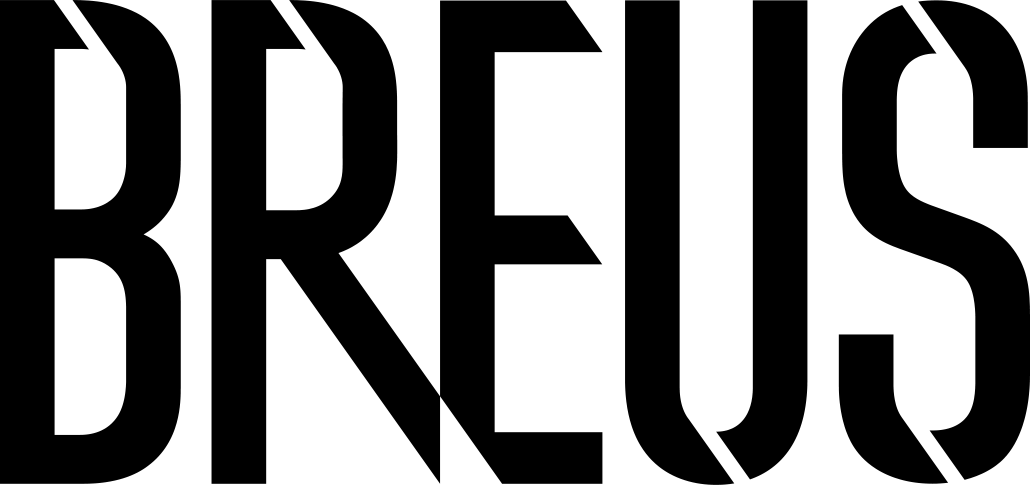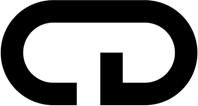О Пурыгине.
Фридрих Ницше как-то сформулировал некую геральдическую Триаду, которая является некой обязательной совокупностью творческой личности.
Лев, Верблюд, Дитя.
Лев – это мужество, героизм, смелость, инициативность.
Верблюд – трудолюбие, терпение, выносливость, несгибаемость.
Дитя – чистота восприятия, непосредственность, видение мира, как будто в первый раз.
Модернисты двадцатого века были и Львами, и Верблюдами, а вот Дитё никак не удавалось. Многие кидались в примитивизм, но усилия оказывались напрасными. Подлинное Дитя не получалось. Художники мучились и осознавали, кто больше,а кто меньше, что все они от древа познания уже угостились, и детской свободы им уже не видать.
Что делать? Как быть взрослым, интеллектуальным и при этом сохранить в себе дитя? Увы, не получается.
И вот при дворе дерзновенных футуристов и кубистов, и прочих истов, появляются наивные художники. Их разыскивают, культивируют, создают себе из них кумиров. Ведь эти простодушные люди как бы и есть художники до Грехопадения, а они модернисты, как бы изгнанники из Рая. В кругу парижских художников-модернистов начала XX века появляется Руссо. Московские художники того же времени открывают для себя Пиросмани. Парижские модернисты 60-х годов открывают Генералича и Вириуса. Нью-Йоркские поп-артисты пригревают Баскию, и вот, наконец, в конце 70-х годов открывают Лёню Пурыгина из Нары.
Как-то раз, в конце 70-х, на одной из квартирных выставок я увидел несколько удивительных, ни на что не похожих картин. Ни в какие измы этот феномен не помещался. Было сразу видно, что передо мной настоящий, подлинный Наив, не примитивизм, в который играли многие профессионалы в нашем цехе, а подлинный Наив, невероятно пластически одарённый, с буйной фантазией Диониса. Изобразительный ряд чередовался текстовыми вставками, ошарашивающими публику раблезианскими юмором и озорством. В картинах кипела и булькала первобытная стихия.
И вот, на одном из клубных вечеров, которые мы с Д.А. Приговым организовывали в Доме Художников, я наконец с ним познакомился. Ему было тогда 29 лет.
На первый взгляд он показался пугливым и застенчивым провинциалом, весь вечер жался в какой-нибудь угол, и когда к нему обращались, то краснел и прихохатывал. Он был крупный, лохматый, в очках с толстенными стёклами, которые выдавали его нешуточную близорукость. Эти очки деформировали его внешность и придавали ему какую-то дикую выразительность. Он был похож на Фавна, нечаянно заброшенного в город, отсюда и дикая застенчивость, не вязавшаяся с его внешним образом.
Позднее я увидел, что Лёня не так уж и прост, что в тихом омуте водятся и черти, да ещё какие. Всё время, что я его знал, он был настоящим enfant terrible. Он мучил свою мать, своих женщин, свою жену садистической ревностью ребёнка. Эгоизм его был слепой и страстный. Свою жену Галину обожал и ревновал так, что отравлял ей жизнь. Ревновал не к кому-нибудь, а к вчерашнему дню. «Вчера ты любила меня больше, а позавчера ещё больше. Сейчас меньше, чем утром». Сначала он в это играл, но потом, как все дети, заигрывался, даже чересчур. Галина даже плакала. Она была просто героическая женщина, любила его как художника и как своё капризное дитя.
Галина отличалась хлебосольностью, очень любила встречать гостей, любила поговорить об искусстве, о художниках, и насмерть стояла за честь и достоинство своего мужа, хотя и страдала от его характера, как редко кому доводилось. Об этом знали очень немногие. Она почти не жаловалась, она вела дом, воспитывала дочь, сдерживала его по мере сил от пьянства и расточительности. Он как дитя мог потратить последние деньги на какую-нибудь безделушку, и потом жена занимала деньги на еду.
Как только Галина куда-то уезжала, около Лёни возникала целая орава приживал, жаждущих дармовой выпивки.
При всём своём безрассудстве, он был по-настоящему добр и великодушен. Помню, как в Нью-Йорке, уже слегка разбогатев, он подкладывал деньги в карман одному уходящему из гостей художнику, который был на мели. «Вот он придёт домой, залезет в карман – а там денежки лежат, и он будет думать: откуда ЭТО?» - объяснял он своей жене, лукаво хихикая.
Когда Ростислава Лебедева там же в Нью-Йорке увезли в больницу в предынфарктном состоянии и тому нечем было оплатить больничные услуги, то заплатил Пурыгин, и это была сумма с тремя нолями. И Лёня не надеялся, что эта сумма к нему вернётся.
Я никогда не видел как он работает и всегда поражался тому невероятному количеству работ, которые он успевал сделать между запоями. В эти моменты жизни, мне кажется, он не спал и не ел. «Когда я работаю, мне ничего не хочется: ни водки, ни жратвы, ни женщины – картинки всё вытесняют».
Сюжеты в его картинах были весьма разнообразны. Очень любил портреты друзей, их жён или детей, причём портреты были все на одно лицо, но обязательно обозначены подписями с именами. Много делал посвящений своим друзьям художникам, даже делал вещи, как ему казалось, в духе соц-арта. Любил изображать распятие, но распятым был только он сам «Лёня Пурыгин из Нары», и крест всегда расцветал какими-то фантастическими цветами. Ничего христианского в этих сюжетах не было, скорее какой-то буйный пантеизм.
Ну и конечно, чуть ли не главной темой его картин и складней-триптихов была детородная стихия, дионисийская оргия. Во всех углах картины изображались половые акты зверей, птиц, насекомых, земноводных, всех земных тварей, а в облаках обязательно мужские половые органы с крыльями. На одной из картин я насчитал их аж 40 штук.
Очень тяжело было бывать в его мастерских, как московской, так и нью-йоркской. Он даже из просторного помещения ухитрялся создать тесноту. Брошенные как попало вещи, тарелки с едой в самом невероятном месте, краски, доски, стружки, дочка на горшке, собака на постели. Эдакое логово Пана или Диониса. Здесь булькала плазма, клокотали страсти инфузорий, шевелилась подземной жизнью почва, пузырилась зелёная тина. И между всего этого бродил как доисторическое животное, вдребезги пьяный Пурыгин, зверски, как-то нечеловечески, талантливый.
Помню, ещё на первых порах знакомства, я воскликнул восхищённо: «Как же ты, Лёнька, талантлив!» «Это мне Богородица помогает. Правда я не знаю, может это и не богородица была. Она была вся в белом, белая женщина». И рассказал как он в семнадцать лет пытался покончить жизнь самоубийством. И это было, видимо, правдой, т.к. рука его была изуродована шрамами. В припадке отчаяния от своей кажущейся бездарности, в пьяном угаре он порезал себе вены. Мать его, гонимая тревогой, вернулась домой, когда он ещё был живой, и спасла его. Вот тогда и он и говорил с той белой женщиной:
- Зачем ты это сделал?
- Я не хочу жить бездарным.
- Дурачок, - сказала она. – Ты гениальный, я буду помогать тебе и больше этого не делай.
«Так поэтому ты подписываешься: Лёня Пурыгин из Нары, гениальный?» «Нет. Из хулиганства».
Что-то в его дионисийском напоре было настолько безудержным и диким, что кое кому казалось даже сатанинским.
Однажды, в 86 году на выставке в зале на Каширке, произошла смешная история. Правда, она была для кого-то совсем не смешная. На выставку пришла известный этнограф Чаадаева, религиозная пожилая женщина. Она в ужасе обходила его работы. А после выставки не поленилась, приехала в зал и окропила святой водой места, где висели его работы. Причём сделала это тайком. Только Виталий Пацюков подсмотрел это случайно.
Конец Лёниной жизни был страшен.
В Нью-Йорке у него начались тёрки с его галеристом – Натаном Берманом. Он ловко пользовался непрактичностью Лёни. Не допускал его до гонораров, сам оплачивал краски, холсты, мастерскую. Оправдывалось это тем, что Лёня не владеет английским, но Галина-то говорила, не очень здорово, но достаточно для решения этих проблем. Берман выдавал ему деньги буквально как суточные. Продавал же очень много и дорого. Наконец, и Лёню, и Галину это стало раздражать и Лёня уехал в Москву делать по заказу какого-то нового русского серию скульптур из бронзы. Уехал, чуть ли не хлопнув дверью. Галина осталась в Нью-Йорке при Дуне и при мастерской.
Конечно, как только Лёня остался без узды, он попал под опеку своих подручных-халявщиков. Начались пьянки, после одной из которых он сжёг непотушенным окурком постель под собой и обгорелый попал в больницу. Кто-то сообщил об этом Галине и она прилетела в Москву разыскивать по больницам Лёню. И вот, ещё не найдя Лёню, на автобусной остановке она оказалась жертвой вдребезги пьяного водителя. Смерть была мгновенной. Это случилось весной, а летом, когда стояла страшная жара, Лёня умер от сердечной недостаточности в результате долгого и страшного запоя.
Работ у Бермана осталось очень много, но прав на них никто не предъявил. Дуня была ещё очень мала. Её долго после смерти родителей опекал Лёнин друг – немецкий журналист и коллекционер Норберт Кухинке. Его многие помнят по фильму «Осенний марафон», где он играет иностранца.
***
У меня стоит перед глазами яркая картинка. Мы с Лёней сидим на берегу речки Шахи, что во Владимирской области, и ловим рыбу. Вокруг него летают бабочки и стрекозы. Они садятся на него, на очки, на руки, на удочку, а на меня не садятся. «Видишь, Боречка, как меня насекомые любят? А тебя нет. Почему, как ты бумаешь?» «Потому что ты Фавн, Лёня. А ты как думаешь?» «Потому, что я божий человек, а ты – нет».
***
И в заключении, цитата из книги Льва Шестова «На весах Иова (странствования по душам)»:
Если мы хотим «абсолютного» знания, если мы хотим видеть «непосредственно», как видит живое и разумное существо, не связанное «предпосылками», не умеющее ещё ничего бояться и не бояться быть «страшным» - terrible, первой заповедью для нас должно быть:
Будьте как дети.