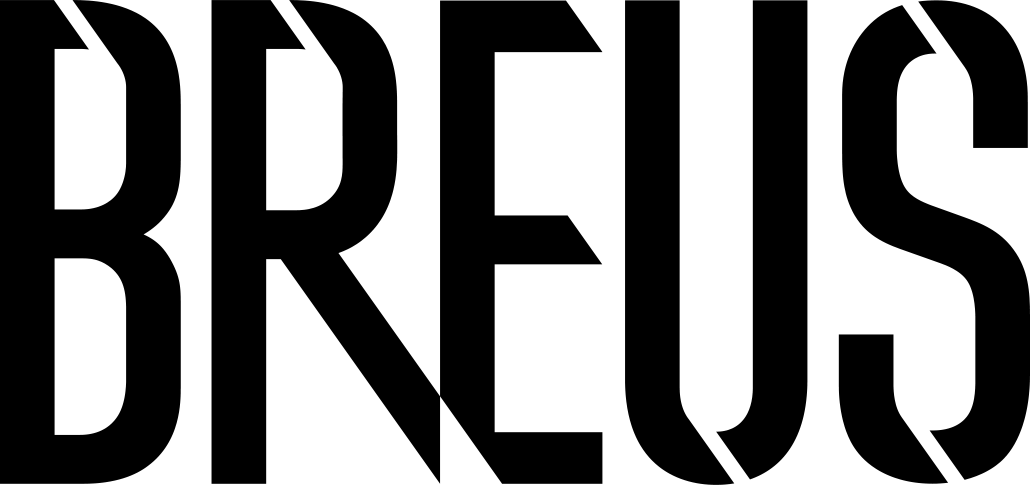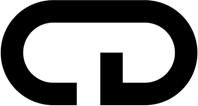БУНТ СУЩНОСТИ
Борис Маннер
Борис Орлов своими произведениями вызывает у зрителя непосредственную реакцию. Повторяющиеся в этих произведениях воинственные символы Марса — будь то орденские ленты, автоматическое оружие или нападающие истребители — действуют как сигналы, которые репрезентируют уже имеющиеся у зрителя картины и миры, пробуждающие у него, в свою очередь, ассоциации. Из этого рождаются ссылки и первичный контекст с политическими, военными и историческими гранями, в котором произведение, казалось бы, размещается безошибочно. При поверхностном рассмотрении работы художника можно истолковать как политическое искусство, возможно, даже как исторически-критическое переживание русской истории. Смысл этих работ в рамках такого пласта толкования не раскрывается. Орлов сплетает в своих работах мотивы, принадлежащие различным системам репрезентаций. Исторические фотографии как немецких, так и советских истребителей времен Второй мировой войны зарастают геометрическими формами, напоминающими супрематизм двадцатых годов. На пьедесталах художник показывает бюсты матросов и солдат с гротескными, несоразмерно увеличенными орденскими планками. В гербарии, состоящем из растений и фотографий, смешиваются органические формы с советскими звездами, которые растут как плоды на этих растениях. Эта сверхдетерминированность художественного акта ограничивает любое истолкование, если оно стремится к сведению таких комплексных произведений к единственному началу.
Изначально для этих миров использование уже существующих и вполне читаемых систем знаков было конкретным. Но системы еще до их применения художником создали собственные грамматики. Например, система наград и орденов в течение современности стала такой сложной, что в ХХ веке была создана собственная дисциплина — фалеристика, чтобы обеспечить исторически-систематическую работу с этим феноменом. Геральдические и фалеристические формы, согласно Дагоберту Фрею, можно называть аллегориями. Они не только обозначают, они непосредственно действуют. Они являются «говорящими» знаками, как так называемые говорящие гербы в геральдике: изображенный на них символ, будь то предмет или животное, не только обозначает владельца герба, а дает помимо этого информацию о качествах данного человека. Лев на говорящем гербе обозначает носителя не только как члена данной семьи, но произносит его имя и, помимо этого, отсылает к определенным свойствам, которыми гербовое животное наделяет своего владельца — в данном случае к мужеству, силе или агрессивности. Орлов синтезирует эти функционально и эстетически доведенные до совершенства коды в своих работах. Путем образования «кластеров значений» он своими объектами создает, пользуясь словами Рансьера, «чистые блоки видимого». Взаимно проникающие, но взаимно непереводимые системы знаков отменяют действие соответствующих упорядочивающих систем и обуславливают таким образом нарушение значения, так как одновременно справедливыми и действенными являются две грамматические системы в одном тексте. Это столкновение чуждых друг другу контекстов упраздняет соответствующие смыслы, вследствие чего рождается изолированный эстетический знак.
Таким образом, работы Орлова показывают наглядно, что смысловое содержание «картины» вмещает больше, чем непосредственно данное в самом произведении содержание. И дальше — реальности произведения соответствует «ирреальность» смысла.
Позицию, с которой художник действует, он сам называет антиметафизической. Получив образование «классического» скульптора в престижном Строгановском училище в Москве, он в своем творчестве совершил радикальный переворот, когда провозгласил, что он как художник действует с метапозиции. Занятая им архимедова точка позволила ему воспринимать художественные процессы в качестве дискретных систем знаков, чтобы затем, наравне с нехудожественными грамматиками, использовать их в своем творчестве. Конечно, целью скульптора не является преумножение значения путем простого использования знаковых систем. Семантическая нерешительность работ приводит в дальнейшем к динамизации, которая свойственна также и классической пластике. В работах, как, например, в бюсте «Император» [1971], этот мотив распознаваем еще «традиционным» образом. Стереотипно воспроизведенный бюст Цезаря, разрушенный ходом столетий, стягивается свинцовыми скобами. Это возможно прочесть как «онтологическую» аллегорию скульптуры как вида искусства. Ибо даже она подвержена разрушению временем, и ее объекты, как и все остальные репрезентанты человеческой культуры, обречены на гибель и исчезновение. Но с этой еще вполне ностальгической позиции Орлов уходит, когда он начинает представлять динамику не как использование «наличного», а как интеракцию несовместимых эстетических грамматик. Именно эти неразрешимые различия между искусством и историей, между языком и зрительным знаком открывают бесконечные возможности игры в исключения и создают для произведений искусства такое место постоянного пребывания, которое не может создать самый выносливый камень. Но даже если художник покинет область классической скульптуры, он останется верен ей в соблюдении творческих принципов. Работа ведет его последовательно к тем условиям, в которых только и становится возможным создание скульптур. Орлов в ходе своих изысканий приходит к тотему как одной из возможностей скульптуры. Здесь необходимо заметить, что часто используемое художником название «тотем» имеет рефлексивное значение. Важно подчеркнуть, что процесс, в ходе которого оноказался там, никак нельзя охарактеризовать как этнологический или тем более сентиментальный — в смысле тоски по «первичному». Джеймс Фрейзер уже в 1887 году обозначил тотемизм как религиозную и социальную систему одновременно. То есть систему, которая неразделимо содержит в себе две смысловые области. Но, согласно Вундту, тотемизм является также и переходом от примитивного человека к веку богов и героев. Ссылка Орлова на тотем тем самым здесь уже угадывается. Следуя советам психоанализа, мы увидим последовательность, с которой художник сам вдруг называет себя «имперским художником». Прибыв на место, которое обозначает тотем, художник там увидел фигуру Отца. Тотем — это его репрезентация, хотя он в первичном бунте уже был убит своими сыновьями. Отсутствующий Отец все еще среди них: тотем в определенном смысле представляет отцовский закон. Но это уже не реальность, а свод правил. Амбивалентное отношение сына к отцу, которое колеблется между идентификацией и защитой, в тотеме нашло свою эмблему. Следы этого можно обнаружить в созданных Орловым бюстах Сталина, в которых диктатор вдруг обладает кормящей грудью или его голову украшает рог изобилия. Путем деконтекстуализации знаков превосходства они становятся аллегориями. Им придается дополнительный амбивалентный «излишек», и они уже не могут служить простыми репрезентантами принципа власти. Борис Орлов в своей художественной последовательности открыл для себя обозначаемое тотемом место Отца. Удержание амбивалентности этого места между жестоким первородом и обществом, цивилизацией и культурой, как назвали бы это Бердяев и Фридель — это, вероятно, следствие художественной последовательности в работах Орлова. Если в таком произведении, как «Автопортрет в имперском стиле», собственное тело задекорировано орденами как наколками, то художник сам становится тотемом. Этот акт является только символическим приближением к позиции Отца и ни в коей мере не «реальным» замещением, так как есть осознание того, что место отсутствующего Отца более уже никогда не может быть занято. Ибо он навсегда в прошлом. Картины и объекты, которые создает Борис Орлов, — шифры истории, но одновременно и отпечатки ее разрывности. Это может послужить объяснением того, что Орлов никогда не хотел присоединиться ни к одной из художественных групп, которые образовались в 1970-е годы в бывшем Советском Союзе. В качестве «имперского художника», работы которого показывали антагонистический дискурс между властью и восстанием против нее в очень зыбком балансе, он не мог отдать предпочтение ни одной из этих позиций. Создание смысловой нагрузки, изначально не свойственной этому дискурсу, все же требует признания существования обеих сторон. Только так конфликт становится понятным и видимым. Но это признание предполагает общество, для которого существуют такие формы жизни и мышления, из которых возможно появление этой аллегории. Требуя для себя такое общество и признание им, аллегория сама действует объединяюще. Таким образом, Борис Орлов, «имперский художник» мог бы стать первоотцом новой художественной группы. Правда, такая группа вскоре, наверное, распалась бы из-за амбивалентной, колеблющейся между порядком и анархией личностью художника. Невероятный интерес, которым отличается искусство Орлова, в конце концов не допускает сведения его творчества к одному-единственному принципу. В основе лежит разница, бесконечность которой необходимо выдержать. В этой игре тоталитарного и непереводимого, «чистой» цивилизации и культуры, обозначаемого и обозначающего художник легко и глубокомысленно строит некую полосу препятствий, где учит нас понятийному измерению видимого и бесконечности сущего.
2010