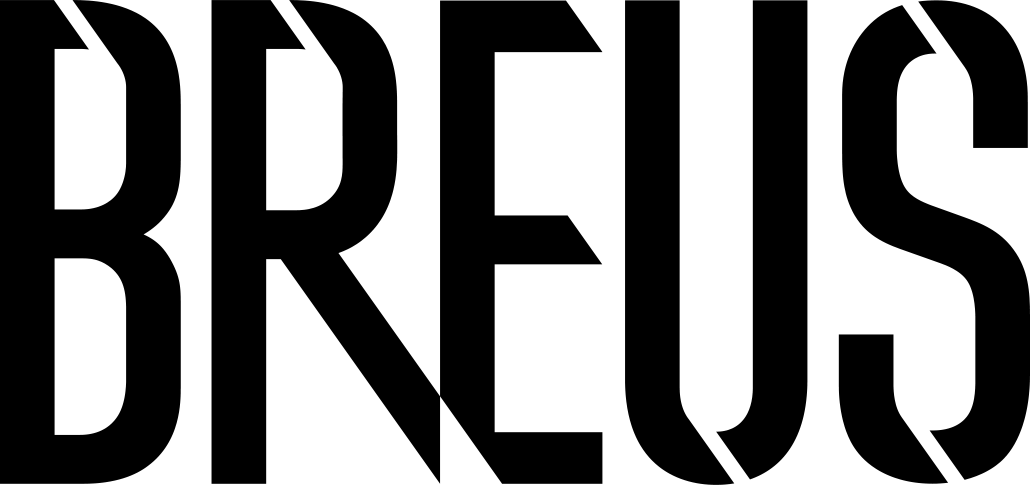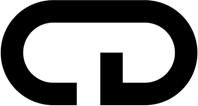«Это вид МАГИИ... »
В 1907 году Пикассо посетил Музей этнографии в Трокадеро, где увидел коллекцию африканской скульптуры. Это событие стало знаковым в творчестве художника. Позднее он неоднократно вспоминал о своих впечатлениях: «Люди создавали эти маски и прочие объекты с сакральными, магическими целями, в качестве посредников между ними и неведомыми враждебными силами, которые их окружали. Создавали их, чтобы победить свой страх и ужас, придав им форму и образ. В тот момент я осознал, что именно это и есть существо живописи. Живопись — это не эстетическая деятельность. Это вид магии, предназначенный для посредничества между странным, враждебным миром и нами, это способ захватить власть, овладеть нашими страхами и желаниями, придав им форму. Когда я пришел к осознанию этого, я понял — я нашел свой путь».
Это рассуждение Пикассо представляет не просто эпизод в его личной биографии или особенности его индивидуального восприятия. В нем воплощены важнейшие грани модернистского искусства и особого «духа современности»: в глубине рационального, научного мира «современности» живет миф, архаика. Картины или скульптуры, по определению Пикассо, подобные заклинаниям или магическим формулам, — постоянный компонент искусства модернизма. Они не только средства адаптации в чужом и враждебном мире, но и инструменты власти. Этот двойной аспект — оборонительный и агрессивный — важное свойство искусства модернизма.
В 1990 году в интервью В. Мизиано Б. Орлов, рассуждая об особенностях культурной атмосферы 70-х годов, так сформулировал свою художественную позицию тех лет: «Безусловно, наше искусство было стратегией личного спасения.<...> Официальная культура и идеология принимали все более заклинательный характер. Именно поэтому и искусство свое я все более начинал строить па заклинательном принципе».
Перекличка с Пикассо в данном случае — не просто любопытное совпадение. И знаменитый модернист, и представитель неофициального советского искусства уловили важнейший нерв культуры прошлого века. Ее тайное родство (не только на формальном уровне) с глубинными, архаическими мотивациями творчества. Конечно, существует огромная дистанция между модернистским прочтением архаики в начале ХХ столетия и открытием «архаического» (точнее, использованием модернистских методов работы с архаикой) в советском неофициальном искусстве. И тем не менее это повторение заклинательных методов творчества, восприятие искусства как специфического оружия, позволяющего «уклониться от влияния духов... стать независимыми», дает возможность очертить контуры одного из центральных сюжетов в культуре ХХ столетия и увидеть его преломления в неофициальном искусстве.
В культуре XX века сложилось два основных взгляда на архаическое искусство. Во-первых, его трактовали как наивное, не испорченное цивилизацией, «детское» восприятие мира. С такой точки зрения рисунки детей и дикарей были близки и сопоставимы. Творческий импульс и том, и в другом случае рождается из удовольствия, из ощущения свободы. Можно сказать, что это была идеалистическая концепция, гуманизировавшая на европейский манер архаику. Наряду с этим существовал взгляд на «примитивное» искусство как на противоположное гуманистическим установкам. С этой точки зрения в основе архаического искусства лежали не удовольствие и свободная игра, но агрессия, жестокость, насилие. Двойственность, заложенная в любом архаическом сакральном изображении, — его устремленность к возвышенному и непознаваемому и его связь с темными, опасными и деструктивными силами, скрытыми не только в окружающем мире, но и в самом человеке, — формировала предельно сложный и порой двусмысленный контекст «архаического» в искусстве модернизма.
Культура модернизма усвоила не только внешние формы, то есть пластику архаического искусства. Она впустила в себя и многие смыслы, интенции, страхи и желания «архаического». Драматические коллизии ХХ века, связанные с возрождением «архаики», совмещения рациональности современности и архаических импульсов, хорошо известны. Это не были случайные эксцессы, но неотъемлемая часть культуры модернизма.
Б. Орлов в своих скульптурах сумел представить сжатую формулу, синтез этого опыта культуры ХХ столетия. Он объединил, точнее спрессовал, в своих тотемах или парсунах модернизм, архаику и советскую реальность, вобравшую импульсы и модернистского, и «примитивного». Орлов создал свой миф «советского», повествующий о перипетиях модернистского и архаического, о рождении и гибели современных идолов, о судьбе индивида, вовлеченного в бытие-вместе-с-другими. О соблазнах существования внутри «орнамента массы» и о соблазнах власти, которой наделяет индивида социум. Он придумал свою версию «оружия» против враждебного, чужого мира, изобрел свой метод создания современных скульптур-идолов, скульптур-заклинаний, побеждающих страхи.
***
Для своих скульптур Орлов предлагает несколько названий, выделяет несколько типологических групп: тотемы, парсуны, бюсты в триумфальном или имперском стиле. Границы между ними и очевидны, и условны. Во всех вариантах речь идет об исследовании одного феномена — коллективного субъекта, обнаруживающего себя под разными масками, в разных костюмах, в разных исторических и стилистических контекстах.
Скульптуры Орлова— это особые устройства, художественные конструкции для экспонирования статусных, властных знаков. Их антропоморфность условна. Это скорее аллюзия на человека, подобная аллюзиям архаических идолов. Характерное свойство произведений Орлова — внимание к точечным прорывам на поверхность быта и повседневности «архаических» элементов — сакральных знаков, с которыми глаз современного человека непроизвольно сталкивается на улице, в метро, в публичных местах. Он видит их на униформах, в разнообразных отличительных знаках военных или гражданских иерархий. Художник сосредоточивает свое внимание на этих легких, игровых, декоративных эмблемах власти, на ее театральном реквизите. На ярких, зрелищных «костюмах», в которые наряжается коллективный субъект.
Фигуры Орлова складываются из знаков-фантомов: эмблем, нашивок, погон, значков, орденов и прочих элементов, которые манифестируют статус, место внутри той или иной иерархии. Типологически эти декоративные элементы подобны татуировкам или орнаментам, покрывающим тела «примитивов». Однако у Орлова за этими «орнаментами» и «татуировками» нет самого тела. Его объекты демонстрируют самостоятельную жизнь знаков и эмблем. Они не покрывают или трансформируют человеческое тело, но имитируют, симулируют его. Они складываются в конфигурации, только напоминающие антропоморфные формы. По сути это самостоятельный мир «сакральной» эмблематики, разнообразных опознавательных знаков и символов социального статуса. В духе гоголевской фантазии эти погоны, эполеты, ленты и ордена отделились, обособились от человека и зажили самостоятельной жизнью. В этом сюжете, как и в повести Гоголя «Нос», присутствуют и комизм, и абсурд, и ужас.
Скульптуры Орлова, как правило, производят впечатление легких. Даже в ранних вещах, где есть «коллажные» включения грубого дерева или редимейд (пулеметная лента, фрагменты старой мебели и проч.), сохраняется общее впечатление легкости, театрально-бутафорской симуляции. Эмаль, которую использует художник для раскраски большинства скульптур, как легкая цветная пленка, бликующая и играющая с отражениями света, скрывает, маскирует реальный материал. Некоторые бюсты Орлова производят впечатление фантомных, пустотелых. Они похожи не на материальные, тяжелые и массивные (деревянные или бронзовые) изделия, а на оптические иллюзии.
В скульптурах Орлова человеческое тело представлено лишь минимальными, едва заметными атрибутами, оно вытеснено на периферию. На первом плане оказывается некое одеяние, костюм, мундир. В искусстве ХХ столетия человеческое тело именно с помощью костюма неоднократно трансформировалось в скульптуру. Такие театральные костюмы-скульптуры, которые создавали Пикассо и Леже, Малевич и Ларионов, напоминают архаические маски, ритуальные одеяния, превращающие человека в особое существо, изменяющие его природу. Костюм как маска, скрывающая и трансформирующая, изменяющая человека, в начале века был одним из важнейших инструментов в создании нового человека, в мифологии рождения коллективного субъекта”. Орлов превращает многие скульптуры даже не в костюм как таковой, но в набор атрибутов, украшающих костюм, придающих ему смысл, позволяющих прочитать социальную историю человека.
У тотемов или идолов Орлова, в отличие от большинства архаических изваяний, нет глаз. Они лишены магической власти взгляда. Кроме того, крошечные головы, часто едва заметные за нагромождением знаков отличия и разнообразных атрибутов, практически лишены каких-либо черт лица. Все спортсмены, генералы, моряки и императоры Орлова продолжают не линию архаического производства идолов, а достаточно устойчивую иконографию модернистского искусства прошлого века, в которой самые разные художники искали образ нового человека, коллективного субъекта. Искали формулу новой антропоморфности в дегуманизированном мире, где сами контуры человека становились все менее устойчивыми и определенными. Такие безликие персонажи-идолы, условно антропоморфные машины, манекены или «архитектурные» конструкции встречаются у живописцев-метафизиков Д. Де Кирико и К. Карра, у К. Малевича и его учеников, в творчестве некоторых представителей «второго футуризма» (В. Паладини, Ф. Деперо), у дадаистов Ф. Пикабиа и М. Эрнста. Орлов одним из первых в неофициальной культуре начинает последовательно работать с наследием и мифологией модернизма ХХ века. Оп не ученически осваивает этот опыт, но включает его как составную часть в свой собственный миф, использует как один из многих языков, с помощью которых выстраивает свою мифологическую реальность.
Обращение к традициям модернизма в скульптурах Орлова базируется на осознанной дистанции. Модернизм в его произведениях вспоминается и возрождается как уже утраченный язык, ставший своего рода античностью современности. В его моряках, спортсменах или парадных бюстах, безусловно, прочитываются отсылки к стилистике, к пластическому языку классического модернизма. Их конструкции можно сопоставить с построением костюмов-скульптур К. Малевича для оперы «Победа над Солнцем», П. Пикассо для балета «Парад» или Ф. Леже для балета «Сотворение мира». В них можно отметить работу с цветными плоскостями — легкими и геометрически отчетливыми, — подобную таким вещам К. Малевича, как «Женский торс», «Торс», «Голова крестьянина» (1928-1929). Или узнать общий контур его моряков и военных, складывающийся из фронтальных плоскостей и развернутых в профиль маленьких голов, в серии эскизов костюмов А. Родченко для спектакля «Мы» (1920). Однако Орлов использует этот модернистский язык как всего лишь еще один модуль, еще один мифологический код, с которым он работает.
В творчестве Орлова немало классических модернистских тем и мотивов, принципиально важных для трактовки человека, для осмысления новой антропологии. Например, мотив человека-конструкции, собранного из разных «чужих» деталей — обломков мебели, фрагментов бытовых вещей и механизмов («Две фигуры с натюрмортом», 1971; «Голова императора» из серии «Тотем», 1971; «Бюст в духе Растрелли», 1973—1974). Тема новой формы человека, новой антропоморфности была в центре внимания модернизма на протяжении многих десятилетий. Модернистские мотивы Орлов использует не только как музейные цитаты, не только как игровые отсылки к известным контекстам. Он органично вписывает их в актуальную проблематику «советского». Он осмысляет «советское» не в локальном, узко социальном контексте, но помещает его в контекст истории. В контекст интеллектуальной, духовной истории ХХ столетия. Орлов представляет «советское» не как выпадение из общей логики европейской культуры, не как разрыв, провал и «пустоту». Но как органическую, законную часть «современности».
Еще один узнаваемый модернистский элемент стилистики многих скульптур Орлова – пристрастие к геометрии, к конструированию скульптуры из абстрактных геометрических форм. Однако в отличие от форм супрематистов или конструктивистов, геометрия Орлова другой природы. Это геометрия отвлеченная, абстрактная и одновременно конкретная, вещественная, присутствующая в повседневной жизни социума. Это – геометрия военных знаков отличия, геометрия разнообразных иерархических опознавательных знаков (флагов, значков, погон, орденских ленточек и проч.). правда, надо отметить, что и супрематизм изначально стремился к перемещению своих «чистых» форм в сферу утилитарно-знакового. Черный квадрат ученики Малевича, как известно, носили в петлицах, используя его как знак отличия, а кроме того, создавали эскизы различных значков, опознавательных эмблем нового человека. Промежуточное положение между метафизикой и утилитаризмом супрематических и конструктивистских форм было важным элементом их эстетической и социально-философской программы. Такой же мерцающий – между метафизическим и утилитарным – характер военных знаков, нашивок, эмблем создает в своих скульптурах Орлов. Этот, возможно, непреднамеренный диалог с эстетическими и жизнестроительными концепциями, стоявшими у истоков советской культуры, не просто помещает работы художника в исторический контекст, но и связывает их с ключевыми проблемами искусства ХХ века. Искусство — не только эстетический феномен, но и социальный, жизнестроительный инструмент, преобразующий реальность, воздействующий на человека, — так формулировали в начале ХХ столетия новую концепцию искусства многие художники. В скульптурах Орлова отчетливо обозначен этот исторический контекст, но вместе с тем и дистанция по отношению к нему. Орлов превращает саму авангардистскую утопию в «архаический» миф. Он музеефицирует и эстетизирует властные, жизнестроительные импульсы авангардного и модернистского искусства. Он лишает их властной магии, подобно тому как архаические идолы лишаются своих магических сил в стенах музея.
***
Идолы и тотемы Орлова располагаются где-то на полпути от модернистского конструирования, своего рода инженерии человека к сакральному отпечатку, условному подобию «икон». Они сделаны, выстроены и одновременно — явлены. Особенно отчетливо эти свойства видны в некоторых ранних работах художника, таких как «Аллея героев» (1975), «Иконостас» (1974-1975). В этом смысле они могут быть сопоставлены с поп-артистскими «портретами» или «иконостасами» Э. Уорхола, всегда мерцающими между личностью и типом, между портретом и «иконой».
С другой стороны, сам художник указывает еще один контекст для своих работ — парсуны. Цикл своих работ второй половины 70-х годов Орлов так и называет — «Парсуны». Парсуна (от лат. persona) представляет собой своеобразную архаику портретного жанра, переходный момент от иконы к светскому портрету. Парсунные портреты всегда изображают не индивида, но социальный тип — «царь», «полководец», «вельможа». Парсуны — предшественники парадных портретов. Они прежде всего репрезентируют социальный статус изображенного. В них особое внимание уделяется различным знакам, указывающим на место persona в социальной иерархии, — пышные одеяния, гербы, знаки власти, символические аксессуары.
Наконец, важную роль в скульптурах Орлова играет использование узнаваемой типологии классической, традиционной скульптуры — парадных барочных портретов, классических погрудных бюстов.
Такой палимпсестный, состоящий из множества стилистических слоев характер работ художника представляет вариант коллажной техники. Ранние скульптуры Орлова иногда прямо строились как коллажные объекты, совмещающие не только различные стили, культурные традиции, но и редимейд, фрагменты бытовых предметов, различных контрастных материалов. Одна из ранних работ художника «Иконостас» соединяет учебные пособия (античные гипсовые головы, на которых обучаются рисованию в художественных школах) с актуальным контекстом — газетами, советскими персонажами (моряки, передовики, спортсмены) и композицией советских «иконостасов» - досок почета. Персонажи Орлова нередко имеют нестабильное, «коллажное» тело, части которого подвижны, допускают перестановку, перегруппировку, заимствованы из разных контекстов. Например, его фигуры соединяют механизмы и человеческие тела («Птица», 1979—1991; «Альбатрос», «Ночная ведьма», 1989). Некоторые образы Орлова обладают устрашающими, агрессивными характеристиками («Триумфальная колонна»,1986). Однако, как правило, устрашающий характер большинства образов закамуфлирован, прикрыт нарядной, эффектной раскраской или игровой усмешкой.
Скульптуры Орлова построены на сопоставлении готовых, клишированных образов, знаков, стилей. На игре с различными смысловыми контекстами, скрытыми за узнаваемыми приметами стиля, изобразительными языками и формами. Они представляют своего рода риторические фигуры или «риторические образы», если использовать определение Р. Барта. В своих произведениях художник старается создать максимально широкое «ассоциативное поле» (Барт). Они всегда предполагают вариативность прочтения. Орлов выстраивает не одномерное, однозначное смысловое пространство, но пространство блуждающих, плавающих смыслов. По словам Барта, одно и то же изображение способно мобилизовать различные «словари», скрытые в нашем сознании («в одном и том же индивиде существует множество словарей»7). В своей статье «Риторика образа» Барт именно в этих свойствах «блуждания» и «плавания» означаемых видел специфику изображений в отличие от языка: «Любое изображение полисемично; под слоем его означающих залегает “плавающая цепочка” означаемых». Это свойство изображений акцентирует в своих работах Орлов. Они сохраняют и даже культивируют ту опасность, ту травмирующую неопределенность, которую содержит в себе изображение, не ограниченное словом, не взятое, по выражению Барта, в тиски языка. Именно здесь проступает глубинная связь тотемов и парсун Орлова с «архаическим» — они свободны от «репрессивной роли текста» (Барт) и не стремятся закрепить, остановить «плавающую цепочку означаемых». Они увлекают зрителя в движение за блуждающими смыслами и оставляют тревожное, порой дискомфортное ощущение.
Скульптуры Орлова доставляют эстетическое удовольствие, притягивают эффектностью образа и в то же время сохраняют настораживающую неопределенность визуального, освобожденного от «тисков языка», акцентируют ускользание визуального от «прочтения», от ограничения текстовой, языковой рамкой. Они апеллируют прежде всего к зримому, к зрению – иными словами, к тому, что испокон веков связывалось с опасностями и риском.
Театральность, зрелищность — принципиальное свойство произведений Орлова. Они притягивают, захватывают внимание, они откровенно претендуют на эффектность. Эти качества противоположны желанию подавить в искусстве властные, магические импульсы, связанные с пластикой, с визуальностью, — что характерно, например, для концептуализма. Произведения Орлова направлены не на кастрацию в искусстве его властной силы, не на отказ от его способности завладевать вниманием и сознанием зрителя. Художник предпочитает овладеть этой силой, изучить ее механизмы. Использовать се как «магическое» оружие. Орлов аналитически препарирует механизмы власти искусства, создает в своих синтезах архаизма и модернизма своеобразную антологию искусства-власти, описывает историю властных иллюзий и фантазий искусства ХХ столетия.
Уже неоднократно отмечалось, что само изображение способно формировать свой субъект восприятия. Субъект восприятия тотемов Орлова не может быть коллективным субъектом. Аналитические процедуры, расслаивающие, препарирующие бессознательные аффекты, страхи и желания коллективного субъекта, исключают ту захваченность, то гипнотическое поглощение созерцающего, на которое рассчитаны архаические идолы. Типологически скульптуры Орлова отчасти подобны известным манекенам, наглядным пособиям для врачей, демонстрирующим скрытую структуру человеческого организма. Только парсуны и тотемы Орлова демонстрируют и препарируют не физическое тело индивида, а то воображаемое социальное, властное «тело», которое рождается в «орнаментах массы». Орлов исследует того мифологического коллективного субъекта, который грезился ХХ столетию и создание которого занимало воображение не одного поколения художников.
***
Орлова не интересуют структура и практики реального социума. Он анализирует его воображаемый, мифологический план. Он создает мифических существ, героев советского сакрального мира — моряков, спортсменов, военных. Они принадлежат одновременно и физическому, и метафизическому миру, воображаемому и материальному. Его персонажи не представляют, не изображают некие феномены, сущности социума. Они и есть эти феномены и сущности.
Орловские моряки и спортсмены двойственны. Они — результат деформации, разрушения человека, превращения его в сакральный тотем. И одновременно они апофеозы социального, панегирики его магии и его власти. В них наряду с насмешкой или иронией, привлекательной легкостью и театральностью присутствуют ужас и страх. Иначе говоря, они обладают двойственностью очаровывающего и пугающего, которая присуща всем сакральным объектам. Они репрезентируют насилие над индивидом, его подавление, его исчезновение в архаическом, тотемном, его трансформацию в коллективный субъект. В произведениях Орлова эта драма явлена в фольклорно-магических образах, представлена как вечный мифологический сюжет, вновь и вновь разыгрывающийся в истории, вновь и вновь повторяющийся в любом социуме.
Можно сказать, что в какой-то мере Орлов следует логике Пикассо: он создает «магические», экзорцистские объекты, которые позволяют заклинать идолов современности. Орлов ищет в своих скульптурах «магическую» формулу для преодоления страхов и фобий не только советского человека, но и шире — современного человека, вовлеченного в процесс утраты в «орнаментах массы» собственного «я». Он создает игровую, театрализованную, костюмированную модель этой драмы, но с помощью культурных аллюзий, отсылок к истории искусства, к архаическому и модернистскому контекстам, к механизмам оптики власти создает напряженное и трагическое контекстуальное поле.
Орлов конструирует своего рода инициатический миф современного индивидуума, подвергающегося испытаниям социумом, властью, новым идолопоклонством. Он создает миф о путешествии современного человека к самому себе, о его прохождении через соблазны и страхи, которые ему предлагают социум и власть. Миф об овладении этими страхами. Для этого мифа Орлов нашел язык игры, увлекательного театрального зрелища, иногда пародии, насмешки, набрасывающих яркий, эффектный покров на скрытую драму, маскирующих опасное приключение.
Орлов создал свою мифологическую вселенную, превратил советский социум — его коллективные фантазии, иллюзии, желания, страхи — в мифологическую реальность. В явленные для зрения объекты. Он материализовал советское и шире — социальное бессознательное, придумал для него собственные «заклинания», создал свою практику экзорцизма — овладения, изгнания и подчинения «чужого», враждебного мира ОНО.