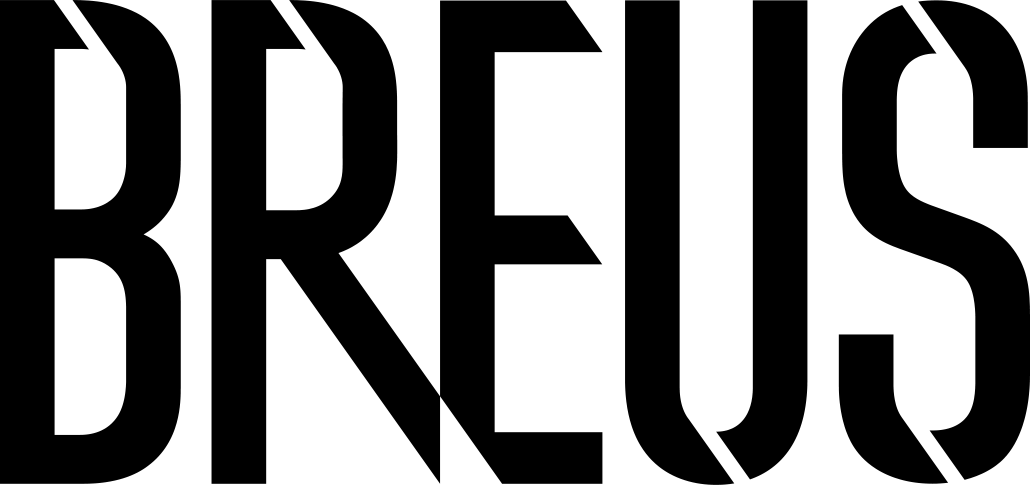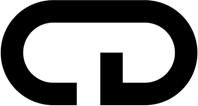Андеграунд 1970-х — начала 1980-х годов.
Возвращение в исторический контекст.
Соц-реализм
Начиная с 30-х годов ХХ века окончательно оформляется культурная доктрина коммунистического общества «Социалистический реализм». Коммунистическая партия вступала в завершающий период борьбы за победу коммунизма. Таким образом коммунизм объявлялся концом истории и становился в реальности эсхатологическим и вполне религиозным учением. Конец истории как обретение рая на земле ставит точку в историческом развитии.
Соцреализм с первых дней своего возникновения объявил, что он является итогом мирового развития искусства и синтезом всего лучшего и ценного, созданного на протяжении развития человечества. Чтобы оградить себя от трупных ядов разлагающегося буржуазного общества и его культуры, был опущен «железный занавес».
По мере расширения системы вовне, новый принцип культуры распространялся как культурный глобализм. Искусство всех стран красного лагеря становилось на одно лицо.
Как только бросаешь взгляд на историческую ретроспективу, начинаешь четко видеть архетип всех исчезнувших европейских империй, начиная с Александра Македонского, с их претензией на культурный глобализм. Вот и сейчас Фукуяма пророчит конец истории, и вот опять налицо новая империя и новый культурный глобализм.
60-е годы
Шестидесятые годы явились началом конца «Большой Утопии». Общество повзрослело, и юношеская мечтательность стала постепенно уступать место аналитической и скептической трезвости.
В конце 50-х приподымается «железный занавес». В страну начинает просачиваться информация о современной литературе и искусстве. Нам стало очевидно, насколько мы выпали из потока истории. Начинает зарождаться бунт отдельной рефлектирующей личности против давления коллективистского пресса, коим являлась формализованная в официальном искусстве и агитпропе идеология.
На этом фоне соцреализм делает отчаянную попытку сохранить status quo, имитируя историческое развитие внутри доктрины. Это «суровый стиль» в изобразительном искусстве и «деревенщики» в литературе. Они заменили глянцевый оптимизм на якобы «суровую» правду. К сожалению, строгие рамки соцреализма и неумолимый бег времени обрекли этот шаг на короткую жизнь. Это был последний вздох соцреализма, и самым мужественным его выразителем был, на мой взгляд, Гелий Коржев.
В это же время возникает андеграунд, пока еще стихийный и в большой мере дилетантский. В основном, это был протест против академической формы соцреализма, это было началом стихийного экзистенциального протеста против тотального регламента.
Андеграунд 60-х был довольно смутным явлением. Его сопротивление официозу было в большинстве своем «сектантским». Очень небольшие группы художников объединялись по интересам, обменивались информацией и «тамиздатной» контрабандной литературой. Все это еще подогревалось поднятием занавеса и проникновением ряда выставок западного искусства. Динамизм и разнообразие этого искусства завораживали и обольщали. Не вникая особенно в причинно-следетвенные связи нового искусства (т. е. искусства последних 30 — 40 лет), художники выхватывали из этого потока то, что им импонировало. Поэтому найти какую-то иную платформу, кроме диссидентской оппозиционности, я зачастую - просто богемного нигилизма, очень трудно, даже невозможно. Правда, за это время стремительно стирались белые пятна на карте современного искусства. На этой волне протеста появились очень мощные личности, внесшие в нашу культурную копилку очень мощный вклад. Их было немного, но это были лидеры своего времени, которые в 1970-е годы своим авторитетом формировали альтернативную культуру уже осознанно. Это были такие имена как О. Рабин, М. Шварцман, В. Янкелевский, В. Немухин.
70-е годы
После разгрома диссидентского движения и высылки Солженицына протестную
площадку вдруг занимают художники, и их оказалось очень много. После некоторого
сопротивления власти решили занять позицию по присказке «собака лает, а караван идет».
К этому времени, то есть к 1974 году, ко времени проведения «Бульдозерной выставки» и ряда квартирных выставок, уже сложилась мощная группировка художников-интеллектуалов, которая тогда уже получила название «Сретенский бульвар». По этому
адресу художники собирались в мастерской Ильи Кабакова. Сформировалось целое
философское направление в художественной жизни Москвы, которое можно назвать
«экзистенциальная метафизика». Это движение не ограничивалось кругом Кабакова, и
питалось оно протестным настроением и влиянием европейского экзистенциализма той
поры. Это не было увлечением моды. Просто идеи героического и романтического
направления европейской мысли легли на благодатную почву. Особенно сильное влияние на нас оказывали русские философы-экзистенциалисты Н. Бердяев и Л. Шестов, которые «просачивались» к нам из «тамиздата». Они открыли для нас Кьеркегора, заново прочитали Достоевского, Ницше и Толстого. Особенно поразил Кьеркегор, который еще в ХХ веке выступил против поглощения единичного всеобщим. Он явился нам как Антигегель, как борец против осознанной необходимости. По Гегелю свобода личности наступает только тогда, когда она осознает необходимость встроиться во всеобщее во имя исторической цели всеобщего. То есть знание есть свобода. Но если нет веры в эту необходимость, что тогда? - сомневались мы. Здесь все для нас рушилось. И вот тут «на ловца бежал зверь». В руки попалась статья Л. Шестова «Достоевский и Кьеркегор». Не буду углубляться в подробности и разнообразие экзистенциальной философии. Скажу только, что она оформила стихийный протест отдельной личности против тотального давления коллективистской общности.
После богемного протеста 60-х против соцреалистического академизма, художники-
экзистенциалисты стали более строго расчищать и выстраивать зоны личной свободы и
впервые обратили внимание на проблему языка как одну из главных проблем культуры.
Противопоставление сакрального и профанного стало главной темой художников этого
направления. Создание индивидуального сакрального языка становилось главной задачей художника. Догматическому существованию общности была противопоставлена открытость бытия. Данному противопоставлялась возможность, единому - вариативность.
Гегелевская формула свободы как осознанной необходимости воспринималась как
рабство. Ей противопоставлялась свобода как открытие возможностей, воление и даже
волюнтаризм. Так одна крайность оборачивалась другой. Но самое главное - мы ощутили прорыв в историческое пространство из костного догматического окружения, в пространство конкуренции идей и свободы эксперимента.
Идеи экзистенциализма в западной культуре воплотились, в основном, в литературе,
театре и кино. У нас же они воплотились там, где можно было уклониться от цензурного давления, то есть - в изобразительном искусстве. Исключением был, пожалуй, один Тарковский. Это была первая идейная русская художественная группировка, внесшая серьезный вклад в мировую копилку и оказавшая решающее влияние на дальнейший ход событий в отечественной культуре. Не стану перечислять и описывать всех участников движения, остановлюсь лишь на некоторых и вкратце.
Кабаков.
Кабакова можно смело назвать лидером этого движения, хотя и другие предложенные
художники не меньшего калибра, а иные развивались независимо. Основной интерес
Кабакова - это абсурд низового быта. Это та трясина, которая окружает и засасывает тех, кто послабее. Сакральная позиция, в которой находится личность, то есть авторское «Я», находится вне текста, но незримо присутствует как свидетель.
Кабаков как истинный экзистенциалист никогда не идет на лобовые решения. а оставляет ситуацию открытой для разнообразных интерпретаций. таким образом вовлекая зрителя в сотворчество. В ряде его ранних вещей можно легко проследить абсурдистские линии Беккета или Хармса, особенно в диалогах, как бы подслушанных через стенку. Но самая любимая его тема — это тема человека, который ничего не выбрасывает. Из этого вороха свидетельств рутинного бытия встает образ времени.
Пивоваров
У Пивоварова несколько другое ощущение себя. Он - типичный кьеркегорианец, где
одиночество возведено чуть ли не в главный принцип свободного существования. У
Пивоварова мы также сталкиваемся с очень знакомой русской темой, идущей от
Достоевского, столь любимой классиками экзистенциализма - это жизнь подпольного
человека. В одном из его альбомов в подвальном окне лист за листом мелькает какая-то
усеченная жизнь. Узкая щель окна отрезает верхнюю часть событий. Изображение
разворачивается во времени. Прием альбома — находка художника, которая стала очень популярной в этом кругу.
Пивоваров, как и Кабаков. очень любит абсурдизировать свои сюжеты, делая их
загадочными и открытыми для интерпретаций.
Тема сакрального, глубоко личного, противостоящего отчуждающему профанному -
главная тема художника в те годы. Художник ищет и строит свой особый мир только для себя, ищет и находит свой единственный язык выражения, идущий от своего «Я» к
самому себе. Он предельно индивидуалистичен и одновременно абсолютно открыт.
Васильев
Васильев - иной художник. Его самоощущение скорее дзен-буддистское. Надо сказать,
что Москва на рубеже десятилетий страстно увлекалась индийской философией. Лекции профессора-индолога Пятигорского в МГУ проходили при битком набитом зале. Издавалось много книг на эту тему. Олег Васильев, тончайшей нервной организации человек, очень остро ощущает и умеет передать хрупкость бытия в своих картинах. Его пейзажи, написанные на черном грунте, были лишены твердой плоти и представляли собой тончайшую пленку вроде пленки масла на воде, которая разрывается на фрагменты, и между ними просвечивает бездна вечности. Точно буддистская Майя, тончайшая пленка бытия. Здесь тоже звучит одиночество и монашеское созерцание.
Булатов.
Булатов наиболее близок к Бердяеву. Очень характерны две его картины. Это «Улица
Красикова» и «Иду». Здесь разыгрывается бердяевская тема встречного движения от
человеческого к божественному и от божественного к человеческому, и точка встречи это творчество как божественное подобие. Творчество, открытость возможностей - вот
главная обитель свободы. Картина Булатова - это открытое окно в мир. Интересно
сравнить эти две картины. Первая - это явная пародия на ивановское «Явление Христа народу», где линии движения от Христа к Иоанну и от Иоанна к Христу пересекаются. а на улице Красикова линия движения нового учителя совсем не совпадает с линией
движения равнодушной уличной толпы, неизвестно куда идущей. Другое дело - картина «Иду». Здесь мы являемся свидетелями и участниками амбивалентного движения, движения навстречу друг другу. На мой взгляд, это самая сильная вещь Эрика Булатова.
Почему-то его часто причисляют к соц-арту. Вероятно из-за того, что он часто использует социальную символику. Но эта символика используется Булатовым как назойливая помеха, как препятствие, требующее преодоления к тому голубому небу, к которому обращается в пограничной ситуации между жизнью и смертью Андрей Болконский. И вот появляется в творчестве Булатова тень еще одного протоэкзестенциалиста, Льва Толстого.
Я перечислил не всех художников этого направления. Их было достаточно много. Я самдо 1974 года был страстным экзистенциалистом, пока не пережил кризиса.
Кризис экзистенциализма и переход из вертикали в горизонталь.
Первая неловкость, которая оказалась предвестником кризиса - это возникшая
неуверенность в отношении к языку экзистенциалистов. Жесткое деление языка на две
сферы, сферу сакральную и сферу профанную, уже предполагало некоторую несвободу.
Запредельный индивидуализм и волюнтаризм в формообразовании, в языкотворчестве,
тоже начинал грозить догматизмом. Релятивизм по отношению к языку выражения стал
оборачиваться диктатом последней истины. Но самым забавным показалось то, что после весны-лета 1974 года, когда подпольное искусство вырвалось на свободу, описанного мною искусства оказалось очень много. Мы, то есть я, Пригов, Чуйков, Лебедев, ощутили девальвацию идей. Но это уже была последняя точка к накопившимся сомнениям.
Мы стали искать иную позицию художника. Мы, живя в позднесоветское время, остро
ощущали в себе двоемыслие и двуязычие, легко переходили из одной системы изъяснения в другую. И ключом этого перехода служила ирония. Спасительная ирония.
Вдруг мы для себя открыли, что ирония - это тоже экзистенциальная зона свободы.
Ирония и оказалась той самой «метапозицией», которая позволяла художнику
погружаться в сферу «Man», то есть в «профанную сферу», и выходить из нее с
добычей, без ущерба для собственной независимости.
На первом этапе соц-арт, коим мы себя тогда не называли, мы ощущали себя
экзистенциалистами-ревизионистами, но тут же, через шаг, пришлось напрочь отказаться от старой системы взглядов. Первое, что пришлось сделать, это расширить зону действия релятивизма. Любая «последняя» истина подвергалась сомнению, появлялась ей на смену шутливая «предпоследняя». Далее следовала реабилитация профанной сферы. Здесь оказалось чуть сложнее. Помню, как-то на одной из читок стихов в 80-м году Илья Кабаков обратился к Пригову: «Дима, Вы так много изъясняетесь на собачьем языке, не боитесь ли сами особачиться?» Так спрашивал радикальный экзистенциалист. Но к этому времени мы уже нашли и оформили ту позицию, где особачивание не грозило. Как-то на кухне у Ивана Чуйкова мы втроем (еще я и Пригов) придумали ту самую «метапозицию».
Это позиция художника-сценографа, который орудует всем спектром материалов,
имеющихся под рукой для решения своих задач. Открывались невероятные пластические и смысловые мизансцены, рискованные по своей остроте столкновения языков из разных рядов.
После того как сфера отчуждения перестала быть для нас табу, после того как мы
спустились с небес на землю, первое, что открылось заново рожденному после катарсиса художнику - это бескрайняя равнина агитпропа и низовой культуры. Разумеется, весь этот пейзаж присутствовал в поле зрения и раньше, но игнорировался нами, как морок. Теперь начинались новые игры: реконструкции, деконструкции, перекодирования, моделирования, вариативности и много всякой карнавальной всячины.
Еще одной характерной особенностью этой новой полисистемы было обращение к
региональным особенностям нашей культуры. Мы не были пионерами в этом деле. До нас региональную тему на всю катушку отыграл американский поп-арт, предъявив себя миру как национальное искусство. Параллельно с нами отыгрывал свой национальный проект немецкий неоэкспрессионизм.
Таким образом, десятилетие 70-х оказалось возврашением русского искусства в
интернациональный контекст и историческое пространство, когда одно направление
мысли сменяет другое и возникает живой поток взаимодействия, то есть поток жизни.
Комар и Меламид или группа «Соц-арт»
Эти двое ребят и придумали этот термин, который к середине 80-х был использован
некоторыми критиками для обозначения довольно широкого и сложного движения. Это
было движение, предшествовавшее постмодернизму. Лидерами нового движения были
две группы. Одна из них - это Комар с Меламидом, и их ученики Скерсис, Донской и
Рошаль. Другая - это две мастерские на улице Рогова: Орлов, Пригов и Лебедев.
Кроме этих двух групп очень независимо действовали Соков и Косолапов. Если
улица Рогова отталкивалась от экзистенциальной метафизики, в коей участвовали и сами, то Комар с Меламидом вступили в диалог с соцреализмом. Вершиной их достижений тех лет, на мой взгляд, была серия «ностальгический реализм» и последовавшие за ней полистилистические и полиязычные проекты. В этом проекте они продемонстрировали то, что история как раз терпит сослагательное наклонение. Если бы советское станковое искусство адекватно отозвалось на имперский проект государства, то оно должно было бы создать такое искусство, какое предлагали Комар и Меламид. Имперский проект в духе Давида.
Язык травести был одном из любимых приемов всего движения. Появляется вымышленный персонаж, от лица которого делается серия картин. Так, у Комара и
Меламида появился тогда одноглазый художник, который написал серию пейзажей с
натуры, и на краю каждой картины присутствовал силуэт его собственного носа. Соков
обращается к карнавальной, ярморочной традиции. Картины и объекты его исполнены
раблезианским озорством. Орлов конструирует архимодели имперских стилей, занят препарированием мифов и вычленением первичных архетипов сознания.
Заключение
70-80-е годы стали временем соединения разорванных связей. Опять восстанавливалась разорванная цепь отрицаний и преемственности. Последующие в 80-90-е годы течения отрицали предыдущие, и искали опоры у тех, кого отрицали предыдущие. Мало того, и искусство социалистического реализма, как последнего завершающего великого стиля, стало всего лишь очередным стилем, стилем, в котором, вполне вероятно, в будущем будут также искать опоры.
Сейчас перед всем миром встает новая угроза. Это угроза нового культурного глобализма. Свято место пусто не бывает. Новая империя диктует свои правила. Очень
знаменательным оказался мой разговор с одной немецкой искусствоведкой в
Берлине, на выставке «Москва - Берлин». Она спросила меня, как мне понравилась
выставка. Я сказал, что очень понравилась. Она разочарованно подняла брови: «Почему?» Я сказал, что очень люблю очные ставки региональных культур, из которых складывается яркий букет большой культуры, когда звучания контрастируют или резонируют. «О чем Вы говорите? - изумилась она. - Все это уже устарело. Мы стремимся создать одну культуру, глобальную, и говорить одним, понятным во всех отдалениях языком». «Но с одним американским акцентом», - ответил я. Мы это уже проходили.