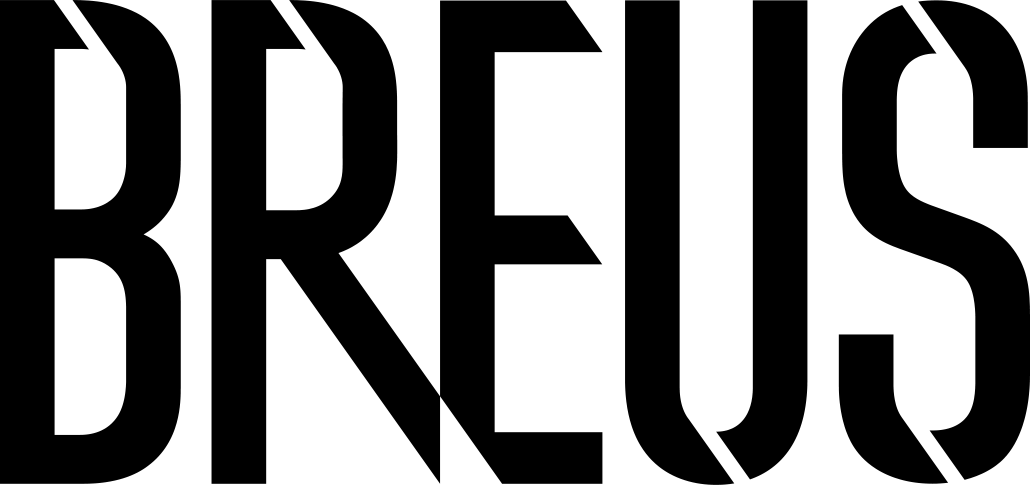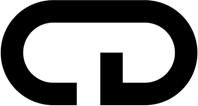Борис Орлов называет себя художником «аполлоническим».
Что это значит?
Прежде всего - верность форме, числу, порядку, мере. Главное здесь, поясняет художник, аполлонический расчет, аполлонический анализ, аполлоническое число, культ этого числа, культ равновесия, культ симметрии.
Всё это, как известно, основополагающие принципы классической и - в различной мере - модернистской скульптуры. Отсюда главный вопрос: каким образом декларация «аполлонизма» соединяется у Орлова с современностью, с ситуацией искусства сегодняшних дней?
Первый, предваряющий дальнейшие наблюдения ответ лежит на поверхности: верность Орлова аполлоническому началу никоим образом не противоречит ни его радикальному разрыву с традициями академизма, ни ироническим перетолкованиям классики. Да, фрагменты классического наследия или цитаты известных стилей приведены к равновесию и симметрии; но - вовсе не для того, чтобы воспроизвести прежние идеалы. Напротив: самоценность любого отдельного произведения исходно включена художником в другую перспективу - перспективу разнообразия культурных кодов и визуальных языков, представленных с точки зрения релятивистской метапозиции. Притом внимание к визуальным языкам демонстративно концентрируется на их риторических и стилистических функциях, то есть на риторических функциях формообразующих норм и предписаний, и - на стилистических функциях эффектов.
Очевидно: аполлоническое в данном случае следует понимать не буквально, но в многообразии своих значений, в модусе образа, языка, метода, модели, в цепочках взаимосвязей с другими смыслами. Аполлоническое у Орлова - концепт в ряду других системообразующих концептов. Отсюда - тождество собственного («аутентичного») языка художника с конструированием «метаязыка», предназначенного для творческой актуализации еще одного уровня - уровня концептуальной разработки морфологически сходных (хотя и тематически различных) моделей. Здесь концептуально осмысленная и теоретически отрефлексированная морфология предстает уже в качестве обширного проекта, призванного тематизировать не только волнующие художника исторические, архетипические, экзистенциальные измерения, но также пластически выразительные образы других моделей, других языков и кодов культуры. В том числе - модель «аполлонической» эстетики. Однако, разрабатывая собственную пластическую морфологию - язык формообразования, язык целостных пространственно-наглядных образов (гештальтов) - Орлов чётко дистанцируется от художественной логики модернизма. Моноязык форм, приравненный прежде к сущности авторского высказывания, решительно выведен им из-под юрисдикции формалистической автономии и - теперь уже в статусе одного из языков, наряду с другими - переведен под начало метаязыковой концептуальной трактовки формообразования.
Перемена существенная, многозначительная, инновационная: язык форм превращен в концепт языка форм и формообразования. В результате пластическая морфология скульптуры становится неотторжимой от динамики меняющихся перспектив, заявляя о себе либо через доминанту гештальта, либо - через доминанту концепта. Притом, что обе величины неразлучны, взаимозависимы. Гештальт, как целостная пространственно-наглядная форма, сохраняет все свои свойства (наглядность структуры, строения, тектоники, а также характера, внешности, типа и прочих «физиогномических» особенностей целого), концепт же, в полном соответствии с логикой современного искусства, выступает разом и конструктом, исследовательским инструментом, и - неотменяемым предметом анализа.
Метаязыковая концептуализация пластического формообразования, переосмысленная Орловым на материале культурных кодов и архетипов культуры, естественным образом побуждает вспомнить об Освальде Шпенглере, его «Закате Европы». Столетие назад пристальное внимание к морфологии привело этого страстного последователя Гете и Ницше к видению культуры как самостоятельного организма, обладающего собственными способами выражения и целостными образами. Образами - не распадающимися на множество составляющих частей, но представляющих собой крепко спаянное единство. Отсюда подзаголовок «Заката Европы»: «Очерки морфологии мировой истории». Первому тому легендарной книги сопутствовало еще одно уточнение: «Гештальт и действительность». Сопоставление «гештальтов» различных культур озарило Шпенглера прозрением судеб западного мира, а возможность отождествлений морфологии всемирной истории с универсальной символикой «прафеноменов» - наделила ключами к толкованиям этих судеб.
Безусловно, художественное мышление, вся художественная система Орлова опираются на иные - постмодернистские - предпосылки. Однако его художественные образы морфологического сродства, предопределенные в своих истоках интересом к архаическим или даже «архетипическим» механизмам культуры, настойчиво выводят на сцену знакомые историософские сюжеты: «Империя», «Большой стиль», «Закат империи», «Гибель богов», «Museum»… Этот сюжетный ряд - при всей его неоспоримой самостоятельности - есть также отсылка к автору «Заката Европы», к его морфологии культуры, к его «физиогномическому» методу, к его «прафеноменам» и «душам» культур. В инсталляции Орлова «Полет астральных тел» парящие образы таких «душ» определенно напоминают нам о наследии германских пророков: о неотвратимом закате, о поступи судьбы, о «вечном возвращении»…
Впрочем, и сам концептуально мыслящий художник, свободно манипулирующий языком форм различных культурных регистров, не исключает из своей артистической игры с гештальтами того, что когда-то стало собственным открытием - опытом сюжетной интриги между «феноменом» и «прафеноменом», «физикой» и «метафизикой».
Слово «метафизика» - одно из ключевых в московском искусстве 60-х - начала 70-х. Оно не имело однозначного смысла и плохо сочеталось с устойчивыми словарными значениями.
В данном случае под «метафизикой» подразумевается модернистская установка на самоценную организацию формы, предопределенную достаточно жесткими принципами экзистенциалистской эстетики. Исходный постулат этой эстетики: подлинность выразительной формы есть свидетельство подлинного существования. И в том и в другом случае слово «подлинность» оставалось преисполненным героических коннотаций.
В словоупотреблении того времени экзистенциализм и метафизика сближались. Общим для них был тип художественного сознания с ценностной установкой на приоритет «внутреннего мира», истолкованного в экзистенциально-персоналистских и онтологических категориях. Художник сам выбирал замкнутое пространство внутренней эмиграции, подтверждая верность своего пути культом сосредоточенного на себе Я. Общая доминанта таких пространств - вертикаль, ведущая к обнаружению сущности бытия в опыте подлинного существования. И хотя художники не чурались друзей и шумных компаний, однако жили и работали они под знаком онтологического одиночества и отчуждения.
Романтической свободе самоценных творческих актов, культу духовной вертикали и прорыва к подлинной реальности в художественных практиках обычно сопутствовали гротеск, фантастика, острая деформация, разорванность, расщепленность, фрагментарная осколочность - образные эквиваленты конфликта усложненной индивидуальности с идеологически-одномерным порядком «всемства». Отсюда - из метафизической неразрешимости конфликта личного и безликого, «я» и «оно» - тема абсурда, алогизма, бессмыслицы и лицемерия внешнего мира, скрывающего от человека правду о его трагической участи. Единственной точкой опоры оставалась верность себе: своему делу, своей теме, собственному художественному языку, манере, стилю.
«Моя тема тогда, - вспоминает Борис Орлов, - это сжимание энергии, которая должна разразиться какой-то ясностью, ожидание катарсиса, тишина, сосредоточенное напряжение. <…> Ожидание катарсиса через напряженную внутреннюю художественную деятельность, не предполагающую выхода во вне».
I.1. Экзистенциальная метафизика: образы и концепты
Концентрации на «внутреннюю художественную деятельность» у Орлова соответствовало заключение в скобки всех «естественных» установок по отношению к скульптуре и делу скульптора. Именно здесь и определился главный вектор последующего движения: сначала - аналитический пересмотр аксиоматики цеховой традиции, который с неизбежностью вел к переосмыслению как классических, так и модернистских ее обоснований; затем - вслед за разрывом со всем, что уже испытано культурой - поворот к опытному конструированию собственных миров.
Опорным источником аутентичности на этом этапе анализа и конструирования, длившемся примерно со второй половины 60-х до начала 70-х годов, выступила не столько роденовская «правда природы» или увлеченность новейшими теориями, сколько последовательность в осмыслении каждой поставленной и решенной задачи. Именно критическая перепроверка - художник вопрошает искусство, а искусство испытывает находчивость мастерства риском неконвенциональных возможностей - и была обращена Орловым на многослойную систему норм и правил.
Пересмотр захватил все уровни: и набор ремесленно-технических приемов, и свод принципов построения художественных образов, и ритерии пластических средств, и способы «прочтений» произведения.
Прежде всего речь шла о возможностях структурирования пластического объекта как упорядоченного космоса.
Исходным предметом метафизической скульптуры стали головы, бюсты. Однако Орлова интересует в них не портретное сходство, не персонаж и его характер, но драматургия противоборствующих внутри объекта пластических принципов и заданных ими динамических напряжений, глухих взрывчатых энергий, усиленных вибрациями выразительной поверхности, резко противопоставленной «импрессионизму» и «чувственному мазку» - салонной моде тех лет. Лепка подчеркнуто структурирована, конструктивна: одни детали завязаны в сложные узлы, другие гипертрофированы внутренней борьбой сил расширения и сжатия формы. На примере бюстов «Бастор Китон», «Гренадер», «Шелковский» легко убедиться как все более и более усложнялась эта рафинированная игра одновременно проявленных и скрытых взаимодействий.
Следующая серия поставила под сомнение представления о скульптуре как монолите, массе, весе. Прежняя система упорядочиваний, основанная на сугубо пластических принципах, теперь преобразуется под напором иных установок: скрытое внутреннее напряжение не удерживается поверхностью: оно изнутри разрывает форму, раскалывает ее на терракотовые черепки. Оставшиеся скорлупы обнаруживают себя как свидетельство и след превращений сверхмощной взрывной энергии в пустоту, ничто. Никакой эссенциальности, никакой самодостаточной сущности, кроме неизбывного мотива расколотости, разрыва, вторжения некоего иного как силы разрушения и саморазрушения. Отсюда - из следов нарушенного единства, из обломков, фрагментов прошлого и «начал» (άρχαί, архай) нового - встречный мотив мифической археологии: скульптура возвращается к себе как бы из раскопок, из руин - заново восстановленная догадкой, собранная, склеенная, варварски стянутая то проволокой, то скобами, то полосками свинца.
В этой серии, переиначившей конструкцию на ре-конструкцию, кроме вполне античной терракотовой «Лошади» (1970) по-прежнему преобладают головы: «Матрос» (1968-71), «Хоккеист» (1968-71), «Икар» (1970), «Король» (1970), «Королева» (1970), «Голова Венеры» (1971), «Сфинкс» (1971), «Император» (1971). Но теперь над всем главенствует идея, эйдос, первообраз - архетип головы.
Выстраивая новый цикл, Орлов вовсе не предполагал какого-либо символизма. Однако поле дополнительных значений им сознательно расширено, позволяя формироваться концептам, взаимозависимым отсылкам и смыслам. Здесь и отголоски древних катаклизмов с разбитыми вдребезги, выгоревшими останками исчезнувших культур, и античная тема возмездия вещам за их самостоятельное существование, и музейные экспозиции реставрированных в XIX веке фрагментов архаики с помощью металлических каркасов, и скорлупа собственного человеческого существования в замкнутости самомнения и самообмана, и экзистенциальный опыт хрупкости человеческого существования. Психоаналитическая интерпретация, возможно, подчеркнула бы фиксацию «принципа самости» либо «травмы рождения» - выхода из внутренней области, самостоятельного освобождения из материнской оболочки традиции, представленной образом изношенной яичной скорлупы2. Ведь Космическое яйцо, изображаемое также в виде сферы, - устойчивый символ жизненного начала, недифференцированной целостности, потенциальности, первоначального материнского мира, скрытого истока, единства времени и пространства. Именно потому в различных космогониях яйцо символизирует творение, а скорлупа яйца, например, в буддизме - «скорлупу невежества»: пробить ее - значит родиться заново и достичь просветления3; пасхальное яйцо символизирует возрождение, воскресение, новое творение - эсхатологическое вступление в новое бытие.
Другая линия работы Орлова начала 70-х - сферические композиции. Здесь, после опыта яйцеобразных, сферических голов, художник открывает всецело новую область скульптуры, практически неосвоенную мировым модернистским искусством - энергию пространственных взаимодействий, обусловленных трансформациями скульптурной плоскости.
Исходный пункт таких преобразований - классический горельеф: изображение фигур на плоском фоне. У Орлова этот плоский фон становится главной действующей силой. Кажется, будто он сам себя перестраивает: абстрактная плоскость, словно поднятая за четыре угла скатерть, растягивается, сферически выгибаясь по краям на зрителя, и одновременно - застывает в выразительной поверхности чашеобразного пространства. Вместо привычных линейных координат вглубь по направлению к точке схода на горизонте - мощь обратного движения на зрителя. При этом «плоскость-фон» решительно отчуждает от себя липнущие к ней фигуры рельефа, заставляет их отслаиваться, «вставать на ноги», хотя и не соглашается на роль «плинта» - традиционной базовой основы скульптуры.
Пространство становится иным: оно перестает быть «нейтральным вместилищем» или только сценой для скульптуры. Теперь оно действующая сила - визуальное подтверждение теорий особой гравитации искривленных пространств. При этом логика пространственных напряжений отменяет диктат основоположных принципов пластики. Ни отдельная фигура, ни их совокупность, обычно представленные различными уровнями глубины рельефа, но сам сегмент шара - энергия его расходящегося во все стороны, сферически смыкающегося за спиной зрителя пространства - и есть главное событие скульптуры. Втянутые в это событие терракотовые фигуры не имеют специального содержания. Они могут быть и абсурдны. Анонимные, закутанные в ткани, разнящиеся масштабами (скажем, большая лошадь - маленькие фигурки) они выглядят насмешкой над традицией рельефа.
Более того, в этом противоренессансном пространстве вообще нет «впереди» и «сзади», поскольку нет даже воображаемого горизонта. Над всем господствует одна точка созерцания - героическая точка зрения хозяина положения, навязанная сверху всем обитателям сферического пространства. Существенно: превосходство этой высшей точки «незримого присутствия» подразумевает не только зенит как астрономическую точку небесной сферы, находящуюся вертикально над головой наблюдателя, но также зенит как высшую степень исключительности - метафизическую вершину «зенита славы».
Слова «метафизическое» и «метафизика», подобно словосочетаниям «метафизическая позиция», «метафизический период», нередко используемые Орловым по отношению к собственному искусству начала 70-х, способны ввести в заблуждение. Ведь на деле сферическая система скульптуры отсылает к самой что ни на есть «физике» - радиусному пространству, связывающему оптику глаза с жестом и тактильностью. Обо всем этом с редкой проницательностью восемьдесят лет назад писал один из основоположников отечественной искусствоведческой науки Александр Габричевский. Однако у Орлова речь идет о бóльшем, нежели оптика или физика. Речь - о некоем умозрительном допущении иного порядка мира, разгадывающем тайну экзистенциальной диалектики личностного существования, разрываемого центростремительными силами героической аутентичности и центробежными силами социальной объективации. Таким образом, «метафизическая» точка созерцания - это точка, соотнесенная с подразумеваемым: с вертикалью как фигурой трансцендентного и топосом персональности, сформированных экзистенциалистским философствованием. Сами же скульптуры наэлектризованы энергиями тонического - так, исходя из греческого τόνος (тóнос - натянутая веревка, канат, струна; напряжение или повышение голоса; тон, ударение, размер стиха, наконец, сила) можно обозначить внутреннее напряжение, подобное точно натянутой струне музыкального инструмента.
Главным мотивом, усиливающим внутреннее напряжение, тóнос скульптур того времени, остается воля к преодолению пределов, ожидание разрешения, катарсиса - одновременно пифагорейско-платоновского «очищения от страстей» и аристотелевского освобождения от страха. Артикуляция этого мотива, опять-таки, подсказана экзистенциализмом. Поскольку истинное существование находится в пограничной ситуации, на пороге принятия решения в пользу подлинности бытия, а не его социокультурных проекций, все зависит от концентрированного собирания усилий, вложенных в акты преодолений. Отсюда - испытующее переживание пространства как прорыва и границы, как подлинного и обманчивого простора. Отсюда и новые обоснования взаимодействий, соотнесенных с вертикалью полей, фигур, позиций наблюдателя.
Наиболее выразительным образом такого рода «собираний» служат ассамбляжи, являющие собой общий итог художественной практики Орлова начала семидесятых. В работах «Две фигуры с натюрмортом» (1971), «Бюст в духе Растрелли» (1973-74), «Хронос» (1974) сводятся все предшествующие линии, являющиеся предпосылками ассамбляжей. С одной стороны - в ряду предпосылок - скорлупы: собранные воедино фрагменты актов деструкции (примечательно: латинское destructio означает не только разрушение, но также опровержение). С другой стороны - формообразующая энергия пространств, побуждающая использовать их как место для сборки, реконструкций и комбинаций из «найденных объектов». Именно объединением этих двух актов разборки и сборки морфологических составляющих скульптурного образа и занят Орлов. Его ассамбляжи - еще одно отчуждение от привычных ожиданий видеть в скульптуре монолитную целостность. На месте замкнутой формы, образованной моделированием глубины и поверхности планов, - множественность: динамическая совокупность взаимодействующих друг с другом элементов, дерзко переиначивающих соотношение той же глубины и поверхности. Здесь и простейшие геометрические объемы, и фрагменты деталей мебели, и деревянная резьба, и обклеенная жесть… А вместе - изощренное равновесие противоборствующих сил барокко и классицизма.
И хотя задняя часть ассамбляжей художественно проработана, допуская круговой обход, однако рассчитаны скульптуры даже не на дугу обхода, но скорее на фиксированные точки зрения. Предполагается, что скульптура должна стоять на фоне стены, словно геральдический знак на странице. Фиксированная точка и продолжающаяся в разные стороны стена, вертикаль, образующая либо ось симметрии, либо ось столба, отрывающего изображение от земли - всё это базисные опоры скульптурного универсума Орлова. Заданные (мета)физикой сферических композиций и ассамбляжей они сохраняются и в «постметафизическом» периоде.
I.2. Поворот к постметафизике
Сформировавшийся к середине 70-х годов переход Орлова к «постметафизике» заложен в самой его «метафизике».
Действительно: если физика сферических скульптур, моделирующая замкнутое со всех сторон пространство, и зенит как высшая точка небесной сферы над головой наблюдателя в совокупности представляют нутро единого пространства шара или, говоря языком мифологов и последователей глубинной психологии, пространство Мирового яйца, - то что нас может ждать за стенами этой сферы? Еще одна, бóльшая сфера, заключенная в следующую, еще бóльшую? И так - до бесконечности?
Вопросы метафизические и одновременно метафорические. За сферической геометрией явно проглядывает экзистенциалистская логика отчуждения, творческого прорыва в иные миры и образ совершенного шара, заключенного в имперском Пантеоне. Не случайно Марк Аврелий уподоблял шар автопортрету души.
Но если так, возможен и другой взгляд, другая геометрия. Если всё, и душа, и культурно-социальное целое изоморфны замкнутому в себе пространству, то единственная надежда на постметафизическую картину мира может быть реализована лишь средствами последовательной деструкции-сборки. И прежде всего - деструкции (разрушения, опровержения) - сборки опорных пунктов традиции, формирующей структурные образы всеобщей целостности. Естественно, при этом, наряду с системой официальной миметической модели, под вопросом остается и ее альтернатива - «автопортрет души»: система «чистой субъективности», отсылающая к традиционной эстетике и философии искусства.
Опорные пункты традиции уподоблены здесь опорным понятиям иностранного текста, нуждающихся в эквивалентах сравнительных словарей. Отсюда - на основе метаязыкового дистанцирования - проект переводов-пересозданий через формирование новых текстов, побуждающих к пересмотру прежних конвенций, к расслоениям слитных контекстов, к выявлениям парадоксов, к игре перестановок, замен, преобразований, совмещений.
Однако на этом этапе деструкции-сборки Орлов не останавливается. Его внимание удерживает другой аспект образов целостности - привилегия особой, «правильной» точки зрения, что позволяет соотносить видимое с «зенитом славы»: тем местом, топосом, где вещи обретают ауру возвышенного, героического, превосходящего свою конкретную единичность, где репрезентируя свою преизбыточность они становятся фетишами, объектами поклонения. А поскольку внутри сферы нет ни «верха», ни «низа», ни начала, ни конца, поскольку, говоря словами ницшевского Заратустры, «центр всюду», вряд ли стоит настаивать на привилегиях «небесного». Земное и небесное включены друг в друга, эстетически объединены возвышенным - что-то вроде сферической развертки знаменитой иконы времен Ивана IV «Церковь воинствующая», где триумфом собраны вместе воинства земные и ангельские. Подобными манифестациями возвышенного и выступают «места славы»: образы высших - «неувядаемых», «вечных» - точек единения небесного и земного.
Первым героем топоса славы стал для Орлова ассамбляжный «Бюст в духе Растрелли» (1973-74): герой совмещения культурно-исторических традиций ренессанса и барокко, когда-то разведенных Вёльфлиным - образ единства разноречивых элементов, объемов и материалов. Последовательная тематизация совмещения «несовместимого» стала для Орлова истоком изобретенных им ведущих жанровых линий, в свою очередь объединенных общим интересом к «социальной геральдике»: линий «иконостаса», «тотема», «парсуны», «парадного бюста». Все они, связанные между собой звеньями ключевых концептов, в той или иной мере принадлежат героическому мифу и все - являют различные модусы державной славы Большого стиля.
Концепт Большой стиль в творчестве Бориса Орлова - художественная конструкция, объединяющая разные аспекты трактовки стиля: от бюффонова «стиль - это человек» до генерализующих обобщений вроде «стиль эпохи» или «стиль цивилизации». Таким образом, «большой стиль» - это одновременно и характеристика специфических проявлений творческой индивидуальности, воплощенных в художественном произведении, и специфическая форма, обусловленная функцией произведения, и - способ соотнесения того и другого с неким целым, выступающим своего рода «фоном»: общей конфигурацией взаимозависимых элементов.
У Орлова Большой стиль воспроизводит не какое-либо художественное направление, манеру или школу, но модель классической риторики, то есть модель предписаний, образцов, норм и правил. В основе модели - убеждение, что мир порождается идеями и подчинен целевой (телеологической) установке. Содержательно Большой стиль есть синоним коллективного стиля, или иначе - форма организации образов и ожиданий коллективно-бессознательного. Речь при этом не идет о каком-то одном стиле или оторванной от содержания форме. Большой стиль - наглядный образ связанности и внутренних соответствий между многообразными частями и подчас внешне различными элементами. В таком смысле он выступает аналогом «образам души» в шпенглеровской морфологии культур, демонстрировавшей единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях.
Для Орлова стили также обладают общим свойством, которое выражает сущность культуры. Представления об этой сущности в его эстетике заданы образами героического, пассионарного, триумфалистского. Их порождает энергия империи, которая овладевает культурами и стилями, преобразуя их в собственный большой стиль. Концепт Большого стиля не предполагает стилизаций; он опирается на архетипические образы парадной репрезентативности: от Рима - через Византию - к Петру Великому, затем - через петербургский период - к сталинскому пафосу триумфа.
Отсюда должно быть понятно: Большой стиль у Орлова не оккупация территории официального искусства, но актуализация еще не выявленных возможностей концептуально переосмысленной морфологии, соотнесенной с образами, моделями, гештальтами, культурными контекстами прошлого.
Морфологической основой Большого стиля выступает у Орлова «геральдический жанр», придуманный художником в конце семидесятых годов - разнообразные по форме фиксации знаковых изобразительных поверхностей. Здесь могут быть и приближенные к фольклорному агитпропу изображения («Шесть ритуальных поцелуев», 1979, «Матрос и спортсменка», 1981) и сведенный к симметрии цветной геометрический знак («Самый главный», 1990, «Противостояние», 1990 ), и рисунки эмблем и наград на теле художника («Автопортрет в имперском стиле», серия «Автопортрет с татуировками», 1995 ).
Интерес Орлова к гербово-знаковым структурам обязан не только богатству геральдического наследия, его изысканным формам, изобретательно украшавших рукописные и печатные издания, церкви, замки владетельных вельмож, общественные здания, триумфальные ворота, надгробные памятники. Мир геральдики, известный по лепным украшениям, витражам, фресковой росписи либо по знаменам, оружию, военному снаряжению, предметам обихода, - привлек современного художника также своей социальной функцией: узнаваемостью привилегированного, идентичного, принадлежащего к точно обозначенному социокультурному кластеру, будь то клан, профессия, генеалогическое древо или воображаемая империя. В конечном счете, именно геральдический знак позволял свести вместе метафизику иконного видения Малевича с поп-артистской геральдикой массовой культуры постиндустриального общества, спроецированных на оригинальный материал местной культуры.
В постметафизическом периоде искусства Орлова герой и его триумф неразделимы. Обнаружившийся много позже, уже в 90-е годы, трагический разрыв между ними - только развивает возможности исходного концепта героического торжества.
Исходная формула героического вполне соответствует определению Гегеля: «индивидуальность сама для себя является законом, не будучи подчинена никакому самостоятельно существующему закону, постановлению и суду». При этом первобытная героика архаического эпоса и мифа у Орлова счастливо уживается с романтическим представлением о героическом деле художника, в том числе собственном. Победа, торжество героического и есть триумф в прямом значении латинского triumphus.
Тематизации триумфа в художественной системе Орлова соответствует ансамбль архетипических образов, сопутствующих героическому пафосу империй. За триумфами советской империи - первый слой - толща русских традиций: от столичной эстетики Петербурга до празднования победы в Полтавской битве, ознаменовавшего начало триумфирования на Руси. Под ними - сквозь всю европейскую историю - памятный древний Рим: победное шествие полководца, увенчанный лавровым венком император в золотой колеснице, запряженной четверкой белых лошадей, за ней - легионы, военнопленные, трофеи, овации, хвалебные песнопения, торжественные гимны, украшения, отличия и - как след на века - арки, статуи, колонны.
Триумф формирует собственную оптику прославления, почета, мéста славы. Сами же местá славы, будь то пространства площади, интерьера либо доски почета, - вторят логике «правильных» точек зрения, «правильных» пространств и «общих мест» (топосов) безразличных к персональности. Правильное здесь предопределено правилом: статусом, рангом, стратой, иерархией. Соответственно, отличия размечены типовыми признаками: позами, контуром, цветом, аксессуарами, регалиями. Вторя этой логике многозначительной безличности и выстраивает свои геральдические ряды Орлов.
Первый - в жанре иконостаса. Наиболее ясно жанр этот представлен исходной композицией «Иконостас» (1974-75 ) - тремя рядами ритуальных персонажей. Наверху - три одинаковые, хотя и по разному обряженные мужские головы, под ними - в центре - пара мужского-и-женского: универсальные Адама-и-Ева, Тристан-и-Изольда или, как тут же додумали первые зрители, Чапаев-и-Анка-пулеметчица, являющие собой культурно-мифологическую модель гендерно-полового единства; в самом нижнем ряду те же персонажи, перевоплощенные в ударников сельскохозяйственного труда. Формально - это ассамбляж: античные головы - маски, размещенные на плоскости. Ассамбляж, приближенный к скульптурному рельефу. Однако при этом демонстративно попирающий все правила рельефа: головы вызывающе выдвинуты вперед, тогда как шея, плечи и грудь лишь обозначены контурными линиями на плоскости. Так же с персонажами: повторение одних и тех же лиц в ряду меняющихся аксессуаров делает их предельно имперсональными, безличными. Игра с цитированием высокой классики перебивается вторжениями знаковых образов современности: советский моряк, строитель, телогрейка, тракторы в полях.
Карнавальная драматургия белой персонажной маски и цветного аксессуара (прототип будущих «фундаментальных лексиконов») естественным образом тяготела к развертыванию в серии, циклы. Первым проектом стала «Аллея героев» (1975): галерея из бюстов скульптур-персонажей, которые, по мысли художника, должны были заполнить все выставочное пространство. В черно-белых фотографиях эскиза (его можно рассматривать как законченное произведение) представлена та же голова-маска Юлия Цезаря, что в «Иконостасе», но на сей раз - со всеми признаками скульптурного погрудного портрета, замещенного подставной атрибутикой. При этом голова Цезаря репрезентирует как мужских, так и женских носителей героических образов советской доблести: строитель БАМа, генерал, матрос, пулеметчица, врач, хоккеист, интеллигент, сотрудник общепита, пионер, заключенный, водолаз, стахановка. Все отмечены орденом Советского союза, и все - сведены к модификациям единого модуля, усиленного повторяемостью характеристик-знаков.
Существенно: стертые образы лиц, обязанные деструкции индивидуального, вовсе не делает их похожими на манекены. Восполняющая сборка демонстрирует не полную обезличенность, но единое лицо всех - всюду узнаваемое родовое лицо, присвоенное ликом власти, ликом империи.
В «Имперском бюсте» (1975, другое название «Матрос») - единственной законченной скульптуре из неосуществленного проекта «Аллея героев» - тема имперского универсализма обозначена со всей определенностью. Загадочный в своей сверхмужественности гипсово-белый Юлий Цезарь с поджатыми губами и жестким взглядом, обряженный на этот раз в бескозырку с надписью «Аврора» (главный символ революции!), в тельняшку с перекрестными пулеметными лентами, являет собой имперское лицо и одновременно лицо империи как типовой образ идеологического суперэтноса.
Подсказки типовых аксессуаров только усиливают эффект надличной целостности, захватившей экспансией неуемных генерализаций и лицо пионера, и лица колхозницы, работницы, спортсмена. Все они - лица бойцов какого-либо фронта: трудового, идеологического, спортивного, учебного, «невидимого».
Работа Орлова с эстетикой «типического», основанной в русско-советской культуре на подразумеваемых канонах, позволила ему концептуализировать сквозные линии далеко не очевидных прежде преемств: от тотемов к римскому портрету, затем, далее - к византийской иконе, к русскому иконостасу, к нормативной эстетике «чина» времен царя Алексея Михайловича8, к принципам «регулярности», закрепленных Табелям о рангах Петра I, к блеску военных парадов, культу мундира и бюрократическому чиновничеству императорской России, наконец, к риторической тотальности советской идеологии и общеобязательности ее ритуалов. Советская система, боровшаяся, подобно царю Алексею Михайловичу, с любыми проявления «бесчинства», устанавливала строгие иерархии титулов даже для деятелей искусства и науки прошлого: одни были гениальными, другие - великими, третьи - выдающимися, четвертые - значительными, пятые - известными и т.д. Рефлексией художника на эту идеологическую установку и обусловлен «Генералитет» (1982 82) - репрезентация героев отечественной культуры «высшего ранга», являющихся, согласно господствующей риторике, «нашим национальным достоянием». В отличие от «Аллеи героев» новый «иконостасный» ряд персонален: перед зрителем увешанные орденами и медалями изображения Пушкина, Ломоносова, Репина, Маяковского, Павлова, Горького, Петра I в униформе маршальских мундиров. Однако, вопреки узнаваемости, персональность опять стерта: на этот раз доминированием однотипных наград и мундиров. Так, через карнавальное переряживание обнаружились знаковая природа социокультурного пространства, а вместе со знаком - новая оптика художественной работы с ним. Сама же работа с социальной геральдикой предстала особой - региональной - ветвью мирового поп-артистского движения.
Жанр иконостаса, сформированный Орловым на основе открытой им модели социальной геральдики, породил и другие ряды и циклы триумфально-героических образов: тотемы, парсуны, парадные бюсты. Все они, после манипуляций с античными масками и орденоносными мундирами, продолжает линию деструкции-сборки, заявленной «Бюстом в духе Растрелли» (1973-74). Структурно, морфологически общим для всех этих образов остаются обязательные признаки парадного портрета от римской скульптуры до наших дней: классический, устоявшийся, канонический контур, фронтальность развернутых плеч, голова в три четверти, изобретенная древними римлянами подставка. Здесь всё, что необходимо для демонстрации значительности, торжественности изображения портретируемого как персоны привилегированной, величавой, обладателе высоких заслуг, чинов и званий. И конечно же, наряду со строгой уравновешенностью композиции - тщательно подобранные аксессуары, «рассказывающие» о значительности образа.
Однако при точном воспроизводстве общей схемы, разработка концептуальной морфологии приводит к новым образным конструкциям. В последующих скульптурах героического цикла деструкции подвергнуты все сущностные составляющие миметически истолкованного парадного портрета. Прежде всего, упразднена анатомическая основа: у триумфальных образов Орлова нет ни головы, ни плеч. Вместо них - знаки: знак головы, знак профиля, знак плеча, знак груди, знак спины. В результате вся конструкция парадного бюста оказывается полностью зависимой от сцепления знаков: достаточно извлечь один, как рассыплется целое. Вместо монумента - фантом. Даже «Бюст императрицы» (1988) с непомерной грудью - всего лишь бюстгальтер на вешалке с крючком-головой. Традиционный жанр скульптуры заявлен, обозначен, но в конечном счете - деконструирован.
Внимание к знаку, к выразительной экономике знаковой структуры образа особенно нагляден в парном «Парадном портрете» (1976, музей Зиммерли 106-107), который хотя и строится по принципу ассамбляжного «Бюста в духе Растрелли», однако переведен в строгую геометрическую систему: белая округлая плоскость замещает женскую фигуру, мундирная черно-красная жесткость - мужскую; символ мужественности - угол, женственности - полукруг. Той же логике следуют и многие другие работы Орлова: например, «Белый военный портрет» (1977 ), «Военный музыкант» (1979 ), «Парадный бюст» (1982-88 ), «Белый парадный портрет» (1989 ), «Парадный портрет» (1990 ).
Обогащение геометрических форм дополнительными значениями - характерная черта исторического авангарда, хотя истоки таких восполнений принадлежат архаике. Именно эти истоки и актуализирует Орлов своей поставангардной геометрией аполлонического числа и меры.
То, что сегодня принято называть «тотемами», древнерусские книжники именовали «кумирами», «идолами»: «суть болваны истуканныя, изваяныя, издолбеныя, вырезом вырезаемыя»9. Кумиры были различные: «и большие, и меньшие, а также средние, причем некоторые искусной работы и прославленные, и другие многие». Из Лаврентьевской летописи узнаем, что выполненные с использованием разных материалов были они полихромными, как например, известный Перун: «и постави кумиры на холму вне двора теремного: Перуна древяна, а главу его серебрену, а усъ златъ».
Тотемы Орлова тоже своего рода полихромные «идолы» и «кумиры». Однако в его пластической морфологии тотем есть прежде всего концепт, собирающий разнородные значения: архаику, современность, архетипическую схему, эмблематический знак, особый жанр, морфологическую модель. Содержательно же, каждая скульптура-тотем, по разному акцентирующая все эти значения, постоянно, с предельной смысловой и пластической завершенностью, демонстрирует замкнутый на самом себе образ над-личного принципа.
Всякий тотем - покровитель коллектива, замещающий отсутствующего Бога, и одновременно мифическое звено, магически связующее с миром предков. Примечательно, термин totem, заимствованный у североамериканского племени оджибав и привезенное в Европу купцом и переводчиком Джоном Лонгом в конце XVIII в., включал в себя и название животного-покровителя, и его знак, и герб клана. Тем самым тотем представлял собой одновременно и принцип коллективного единства, символического тождества, и - принцип различения, простых и сложных систем классификаций.
Как эмблематический знак, объединяющий вокруг себя социальные группы (половозрастные, клановые, племенные, в наше время - партийные, группы «фанатов») тотем в полной мере довлеет себе и говорит за себя. Как таковой, он является одновременно и обозначением, и источником всех значений. Он - мера всех вещей и всех вопросов, знак живительной силы мифического прошлого, постоянная связь с которым столь же необходима и для сохранения традиции, и для непосредственной репрезентации сверхжизненной мощи. Как образ он не есть «образ чего-то», но - исключительно себя самого.
Жанр тотемов, придуманный Орловым, - одна из линий его концептуальной морфологии, основанной на трактовке скульптуры как наглядной образной форме знака. И чем больше Орлов приводит образ к знаку, тем дальше уходит от инерции скульптурного портрета. К пластическому знаку приведена и человеческая фигура, которую могут представлять геометрически правильный прямоугольник, квадрат, полукруг, треугольник, помеченные той или иной эмблемой (скажем, эмблемой моряка или спортсмена) либо - строгим параллелизмом орденских планок, пересеченных диагональю почетной ленты. Пластическим знаком может быть и фрагмент спартаковской спортивной майки, где знаковая форма восполнена «пра-женской» мифологией («Спортсменка», 1979).
Тотем подразумевает тотемизм: наличие комплекса связей между знаками и мифами, поддерживаемых коллективной традицией и представлениями о сверхъестественном родстве между определёнными группами людей и тотемами.
Тотем у Орлова - это и мифологический герой империи (таковы оба «Матроса» 1976), и птица (складень со створками-крыльями «Филин», 1979 115; парадный «Петух» 1986), и милитаризованный агрегат («Неопознанный объект», 1990). Но главное, общее в пластике тотемных конструкций - утверждение вертикали: обязательный столб как образ вознесенности, незыблемости, постоянства. Скульптура здесь возвращается к латинскому первоисточнику: statua - это прежде всего колонна и вместе с тем статуя; то, что ставят (statuere - ставлю) и то, что стоит (status - стояние; рост, вышина). Именно таковой и была ранняя «Голова Императора» (1971) - проницательная догадка о логике пластических трансформаций скульптуры, генеалогически восходящей к тотемизму.
Исторически тотем представляет собой прообраз геральдических фигур. Гербы, появившиеся в средневековье, несут в себе все признаки тотема: те же тотемные звери, птицы, растения, только изображенные иным, стилизованным образом. Орлов делает следующий шаг: геральдическая стилизация бестиариев превращена им в объемный знак - скульптуру, наделенную свойствами объекта.
Решающей формулой последующих трансформаций скульптурных бюстов стала концепция парсуны.
Опорное понятие «парсуны» использовано Орловым иронически. Парсуна в его художественном деле - вовсе не персона, не личность, не лицо, даже не маска, что являлось первичным значением латинского persona, и, конечно же, не условное обозначение русской полуиконной-полупортретной живописи XVII века, введенное И. М. Снегиревым в середине позапрошлого столетия. Тогда парсуна сама выступала знаком, отсылавшим к важнейшему переломному периоду русской истории и культуры: первым шагам вестернизации эпохи Нового времени. То же восприятие сохранилось по сей день: парсуна, будь то портрет человека, стоящего на рубеже исторических эпох или произведение периода перехода от иконописи к светской живописи - понятия родственные, хотя не идентичные - мнятся нерасторжимыми сторонами одной медали.
Парсуны Орлова такую нерасторжимость ставят под сомнение. Они решительно игнорируют портретное совмещение иконописи манеры плоскостного изображения, с новой, объемной моделировкой светотенью. У всех персонажей Орлова, объединенных жанром парсуны, голова не только лишена индивидуальности, но вообще редуцирована до условного плоского профиля, сведена к обозначению, схеме. Тут нет и намека на портрет: лицо отменено гипертрофированным фасадом груди, разлинеенной планками наградных знаков. «Персональное» определяется аксессуарами, регалиями, чином, а не личностными характеристиками. В конце концов, материальность груди исчезает под ритмическими рядами лент, орденов и медалей.
И это не удивительно: там, где личное определяется через над-индивидуальное, оно неизбежно обретает семиотически кодифицированный образ места. Таким местом, конечно же, не может быть всё тело человека. Не может быть им и лицо - оно достаточно индивидуально. Сцена героического, победного, праздничного, возвышенного, мощного, жертвенного принадлежит лишь топосу груди: груди воина-героя, защитника, спортсмена, труженика, партийного вождя. Эта широко расправленная, готовая превратиться в знамя, доску почета или стену славы, забронированная в униформу грудь, становится носителем метонимических смыслов и подразумеваемых отличий. Украшенная орденами, эмблемами, орденскими колодками, лентами, она обретает космически-универсальный и одновременно всенародный характер славы, доблести и геройства.
Конструктивный характер парсун Орлова, особенно ранних, таких как «Красная парсуна» (1977) или «Белый военный портрет» (1977) выступает своего рода визуальным аналогом сюжета социально-идеологического конструирования «нового человека». Образ уравнивается с геральдической эмблемой, знаком, тяготеющим к плоскости. Главное в нем - ранг, чин, порядок заданных соподчинений. Притом, что само конструирование является в данном случае базисным компонентом концептуальной морфологии.
Концепт парадного бюста - еще одно замещение исчезнувшего из лексикона Орлова-скульптора слова «портрет». И в этом смысле может рассматриваться как еще одна модификация тотемного жанра.
Словарное понимание бюста, обязанное французскому buste, обычно подчеркивает портретный мотив: погрудное изображение головы человека в круглой скульптуре, со времен Древнего Рима включающее в композицию также подставку. Однако вместо привычных значений французско-русского словаря, парадные бюсты Орлова побуждают вспомнить латинский исток: bustum - «место кремации, могила» и уж затем одно из главных значений: надгробный памятник.
Тема памяти здесь явно доминирует. Но памяти не личностной, персональной, а подчиненной логике знака. В этой логике парадный строй и чин стирает лица, оставляя обличье: непомерную, могучую, вздымающуюся на вдохе орденоносную грудь. В символическом строе русской культуры грудь - сердце, воля, нрав - место средоточия переживаний, чувств, настроений, вместилище душевных сил, энергии как, скажем, в характерном для русской литературы выражении Достоевского о «таящихся в груди нашей исполинских силах». У Орлова все эти смыслы демонстративно поглощены военно-героическими и триумфалистскими значениями. Тут невольно вспоминаются мобилизационные императивы нашего языка: «встать грудью», «рваться грудью вперед», «фронтальная атака грудью», «нагрудные знаки наград и отличий»; в конечном счете - символический эквивалент всех ратных доблестей: мундир.
«У империи лицо, как правило, военное, - разъясняет художник. - И даже невоенное обряжается в мундир. Спортсмены - тоже воинство империи. <…> Я видел не ордена, а претензию на соблазнение, и первым моим натурщиком был генсек - говорят, у него было орденов в три раза больше, чем он мог нацепить. Награждались газеты, консервные фабрики - везде были свои орденские иконостасы».
Другой формой торжества и награды в искусстве Орлова выступает букет. В нашем обиходе французское слово bouquet имеет несколько значений: срезанные либо сорванные цветы, подобранные друг к другу; собранные воедино какие-нибудь однородные предметы, явления; ароматические или вкусовые свойства чего-либо.
Современные значения Орлов восполняет архаическими. В древности собрание цветов и ветвей служило символами славы, мира и торжества. Таков, например, лавровый венок (corona laurea) - величайшая награда олимпиоников, славных полководцев, поэтов, ораторов у греков и римлян. Но самая высокая награда Древнего Рима - триумфальный венок (corona triumphalis), которым победоносный полководец украшался при триумфе, а в последствии и при других празднествах; позже венок этот стал знаком отличия императоров вообще. На римских изображениях мы видим, как такие венки, скрепленные и украшенные лентами, держат крылатые богини победы - Виктории.
У Орлова все эти мотивы сведены вместе: в его букетах крылья, ленты, вымпелы, эмблемы морфологически объединяют в V-образной форме и римскую Victoria-победу, и крылатую эллинскую Нику. Поэтому это не скульптурный натюрморт («мертвая натура), не тихая жизнь вещей (Stilleben), но своего рода «акция» прославления, увенчания, славы, радости и торжества цветущей геройской бодрости.
Концепт Большого стиля в художественной системе Орлова неотторжим от концепта империи. Соответственно, стиль как манифестация власти и ее императивов предполагает и концептуально осмысленную морфологию.
Тематические линии этой морфологии, основанной на «геральдическом жанре», представлены преимущественно отдельными скульптурами: тотемами, парсунами, парадными портретами, букетами. Однако разработкой пластических образов ресурс концептуальной морфологии у Орлова не ограничивается. Концепт Большого стиля, возможности динамического его развития теснейшим образом соединены с другим ключевым концептом - фигурой имперского художника.
III.1. «Имперский художник»
Имперский художник - самообозначение собственного места в концептуальном проекте, начатом Орловым более тридцати лет назад.
Обоснование проекта, его идейный, концептуальный и «оптический» ресурс - все та же метапозиция, позволяющая художнику остраненно (термин В. Шкловского) исследовать окружающую действительность, избегая идеологической экзальтации и критического пафоса. Отсюда же - конструирование универсальных моделей («архимоделей» в терминологии художника), способных объединять мифо-исторические прообразы с повторяющимися из века в век репрезентативными образами власти.
Орлов всегда декларировал ретроспективность содержаний своей художественной рефлексии, которая учитывает и древние тотемы, и римский парадный портрет, и Византию, и старинный герб, и парадное искусство барокко, и многообразие имперских стилей. Именно внутри этой ретроспективности и выстраивается его морфология проектной культуры, именующий себя империей. Империей, унаследовавшей эстетику героического пафоса от древнего Рима до петровских преобразований, ампира и сталинского монументализма.
Себе скульптор отвел роль «главного имперского художника, законодателя стиля, роль некого Давида или Растрелли».
«Я вполне лирический человек в жизни, - признается скульптор, - но, когда прихожу в мастерскую, я вдруг ощущаю себя в мундире, художником империи».
Такая роль, подсказанная Орлову образом переодетого в костюм другого пола певца-травести, отчасти напоминает канонизированную московским концептуализмом фигуру художника-персонажа, оформляющего стенды, красные уголки и доски почета. Однако Орлов формирует совершенно иную модель: его имперский художник озабочен триумфом имперской мощи в ситуации, где государство стыдливо избегает применять слово «империя» по отношению к себе самому, к своим желаниям и действиям. Имперский художник говорит тем самым о политически замаскированном, тайном, табуированном, сокрытом - столь же интимном, сколь и травматичном.
Орлова интересует при этом не только имперский тип официоза и визуальные формы его государственной объективации, но также низовая, фольклорная сфера: «Меня занимал механизм усвоения казенных доктрин народным сознанием, те уровни, на которых официальная идеология начинала пластифицироваться в низовом общественном сознании. <…> На первых порах задачу я ставил чрезвычайно „скромную“ - сконструировать пластическую модель репрезентативного имперского искусства вообще и, в частности, некую архимодель парадного портрета, наиболее полно характеризующего имперский стиль. <…> Далее задачи усложнились и сфера моих эстетических „манипуляций“ значительно расширилась. Исследование магической, религиозной стороны „победившего социализма“ привело меня к использованию тотемных конструкций».
В таком контексте тотемы - вовсе не тема этнографии, магико-религиозных, мемориальных значений, но первичная эстетическая тайна империи, тайна «тотемных вождей», говоря в терминологии Сержа Московичи. Именно поэтому в имперской системе Орлова, прежде всего, эстетизируется архаическое, инфантильное: ослепительное сияние власти, фаллократическая вертикаль, претензия на супермужественность, пафос триумфалистской воли, повелительное наклонение лозунгов, суггестивная магия священных знаков и символов - образы, наделенные империей бóльшей реальностью, чем сама реальность.
Концепция имперского художника - обязана не только иронии и дистанции, позволивших значительно облегчить тяжеловесность образов. За ней просматривается и общая методологическая установка: с одной стороны, полагание референции не между образным языком и референтом, но между самими кодами; с другой стороны, в силу отождествления коннотативных систем с кодами и усиления поля коннотативных значений, - ослабление всякой однозначности системы знаков и денотативных значений.
Таким образом, в имперском художнике сходятся вместе: исследователь архетипических образов и первосистем, которому интересно как они дошли до нашего времени и какие изменения претерпели, и - автор анфилады репрезентативных икон власти от тотемов до парадных бюстов, от фотографий - до инсталляций.
Первоначальным инструментом, формировавшим собственную поэтику имперской морфологии, выступал «полиязык» - контрастное смешение в одном произведении элементов конструктивизма, агитационного плаката и помпезной пластики имперских стилей. Однако всякий раз подобное столкновение служило прежде всего задачам вычленения более глубоких, базисных структур - тех «каркасов», которые выступали универсальной основой «объемных знаков», замещавших собой традиционные представления о скульптуре.
Основные линии этой знаковой скульптуры, порой тяготеющей к искусству объекта, были разработаны Орловым в 70-е годы и продолжены последующими десятилетиями. Притом заметно расширился тематический репертуар, сопутствующий преобразованию имперских стилей («Бюст в духе Растрелли», 1982; «Бюст в стиле Ампир», 1986; «Букет в имперском стиле», 1988; «Икар», 1991). И одновременно - усиливается роль драматургической концептуализации. В ряде скульптур «развитие действия» провоцируется моделью «имперской асимметрии»: амбивалентностью, дуальностью неразрешимых противоречий между фасадом и обыденностью, порядком и природой, законом и желанием, завершенным и становящимся.
Во многих объектах такая асимметрия инсценирована последовательным противопоставлением пластических характеристик и фактуры. Так, передняя, фронтальная часть скульптуры неизменно тяготеет к уплощенному рельефу, транспаранту, плоскости, к всеохватывающей поверхности сияющей раскраски; сбоку же проглядывает всегда открытая, живая, почти необработанная сердцевина дерева, которая с тыльной стороны, подобно плохо закрашенным стенам задворок, является табуированным негативом фасада. Сбоку хорошо видно, что весь блеск ослепительных фронтонов - не более, чем тонкая блестящая кожица, яркая красочная эмаль, скрывающая от глаза сущность конструкции. Что-то похожее на древнеримские храмы с их наступательными, направленными на зрителя фасадами и мало выразительными боковыми сторонами. Сзади же скульптуры Орлова нарочито «снижены», уподобляясь то петербургским дворам Достоевского, скрывающими темную глубину неразрешимых страстей, то совершенно фольклорным «дембельским сундукам» с наклейками и подписями («Парадный бюст с лентами», 1987). Орлова всегда манит сдвиг, обязанный несовпадению государственных амбиций и народного, низового, архаического мифотворчества.
Однако наиболее значимо скрытая интрига его эмблематической драматургии проявилась в инсталляциях, к которым Орлов обратился в конце 80-х. Здесь скульптура и объекты предстают образами универсума, объединяющего небо и землю. Общий замысел тех лет - представить Пламенеющий стиль империи (по аналогии с позднефранцузской «пламенеющей готикой»), которым завершается собственная история имперского искусства: от тотема как репрезентативного знака рода к римскому парадному портрету той же поры, далее к геральдическому символу рода, затем к деисусному чину как демонстрации мощи небесной иерархии, потом к демонстрации государственного могущества эпохи ампира, и наконец, последнее звено - репрезентативный стиль советского периода.
Тем самым советское рассматривается не само по себе, но в качестве модификации знаков, символов и стилей универсальной империи и ее героики, прорастающих сквозь все периоды истории. Однако универсальность эта представлена не «субстанцией» господства и подчинения, но экспансией желаний. Вся красота пламенеющего стиля - лишь фантазматическая вершина цикла совращений: грёза власти о своей неиссякаемой потенции, необратимости, бессмертии. Орлов признается: «Доминирует желание создать эффект ослепительного соблазна, подобного Византийскому, что, собственно, на мой взгляд, и было главной претензией нашей системы до 1992 года».
Центр, ядро, магия этого соблазна - помпезная фигура Пантократора, сакрального Вседержителя имперского универсума. Тотемные иконы этой фигуры и демонстрируют «алтарные образы» двух больших инсталляций: «Иконостас в имперском стиле» (1989 ) и «Пантократор» (1990 ). Каждый такой образ представляет собой своего рода хоругвь (т.е. знамя - этимологически - «знак»; стяг, священное изображение на ткани, носимое на древке): конструкцию из рядов орденских планок и диагональной ленты, с подвешенными к ним лентами, завершающимися внизу медалями. По общему контуру это всё тот же тотем с редуцированной головкой, но на этот раз - парящий над зрителем и множественными рядами повторяющихся императивных заклинаний на полу: «пусть крепнет», «пусть крепнет», «пусть крепнет», «пусть крепнет», «пусть крепнет»… («Иконостас в имперском стиле») или - «стоять смирно», «стоять смирно», «стоять смирно», «стоять смирно», «стоять смирно», «стоять смирно»… («Пантократор»). В каждой инсталляции сияющий победоносный образ и десятки раз повторенные мобилизационные мантры придают фаллоцентрическому милитаризму империи заряд экстатического восторга.
Империя как экзальтированная претензия - эффект и соблазн апофеоза власти - именно эту тему и представляла чикагская выставка-инсталляция 1990 года. Над всем доминировали имперские идеологические тотемы: на стене - «Трехглавый тотем» с надписями «Пусть! Пусть!.. Пусть будет так», возле, строем, вокруг - большие и малые тотемы-фетиши, парадные портреты («Парадный портрет с лентами, 1989 , «Бюст в имперском стиле», 1989), изящный «Архитектурный ордер империи» (1990), колесница-конструкция «Радость побед» (1990), воинственный тотем «Неопознанный объект» (1990) с директивами: «Стрелять дальше! Пахать глубже!».
Выставка в Чикаго проходила «на излёте» советской державности: и дух, и стиль «красного империализма» стремительно теряли признаки какой-либо жизнеспособности. «Цветущая сложность», о которой мечтал в своей эстетике имперского византизма Константин Леонтьев, превращалась в гештальт - целостный образ-знак, обязанный своезаконному феномену триумфирующего русского художника в Америке.
Следующая по времени инсталляция - «Гибель богов» (1991, галерея «Риджина»), подготовленная весной 91-го, сразу по возвращении Орлова из Америки, - логикой событий связала мифологию империи с исторической реальностью августовских событий. Художественную аллегорию восполнила злободневная реальность событий распада.
На этот раз выставочное пространство заполнили склоненные, удерживаемые подпорками либо опрокинутые навзничь антропоморфные фигуры нагрудных медалей. Вчерашнее торжество вертикали колонн-постаментов, горделивого сияния восторженной мощи сменяется засильем диагоналей опор-костылей и заваливающихся человекоподобных медалей. Вместо повелительного наклонения «пусть стоит!» - заклинания: «пусть не падает», «не падать». Одни персонажи прислонены к стене, другие - полуопрокинуты, третьи - лежат навзничь, присыпанные песком. Триумфальная колесница также снабжена подпорками; одна из помещенных на ней фигур упала вниз. Наверху - награда, знак былого величия: медаль-хоругвь.
К той же теме примыкает и выставка «Крушение героя» (1994, галерея «Риджина»), - демонстрировавшая инсталляцию «Икар», фрагментарно представленную прежде в качестве объекта на выставке «Гибель богов».
Смена исторических перспектив, ознаменованная началом 90-х, истолковала имперский образ торжествующего порядка, иерархии и системы как пережиток прошлого. Та же смена изменила и зрительское восприятие: позже, ретроспективно, сияющие орденские планки, «ковровые дорожки, указывающие путь к новым свершениям, и прочая бравурная красота» были опознаны как «эффектные надгробия», которые Орлов «загодя начал делать стране и эпохе». Однако для самого художника понятие империи было и остается метафизическим: империя не исчезла, но пребывает в астральном теле.
В инсталляции «Парад астральных тел» (1994, галерея Риджина) нет ни вертикали, ни диагонали - все предопределено горизонталью. Но на этот раз - горизонталью «высшего» порядка: впервые пространством владеет «воинство небесное».
«Парад астральных тел» - завершение Большого стиля. Тема империи растворена в мифологии ее истории как смене замкнутых циклов. Из черного квадрата - символа модернизма, иконы русского авангарда, метафизического ничто и одновременно полноты, «плеромы», абсолютно радикального начала, в свернутом виде содержащего в себе все противоположности - вырываются крылатые сущности, напоминающие геральдических птиц. Одни соединяют старинные имперские знаки, например, ордена Святого Владимира или Андрея Первозванного с хвостами советских самолетов, другие - предвестники новых образов вечной империи - выглядят анонимными, неявленными в полной мере черными фигурами, «астральными телами», которые по мере освобождения от мистических сгустков рождающего черного лона, превращаются в ордены-орлы.
Основной мотив, подчеркнутый подписью «они возвращаются» - мотив «вечного возвращения»: все, что уходит «туда», в черный квадрат, оттуда же возвращается вновь. Торжество сменяется гибелью, гибель - предвестниками возвращения. И здесь, как в мифологии героя, всё должно повториться. Действительно, так и есть: образ времени в этой инсталляции подобен (мета)физике сферических пространств, по определению не имеющих начала и конца. Онтология «вечного возвращения» - это онтология героя, но не истории и становления.
Латинское слово conversio означает «вращение, обращение (например, планет), круговорот», а вместе с круговым движением - как «периодическое возвращение», так и «превращение, изменение, переворот». Позже, уже в наше время, конверсия стала означать замену одного другим. У Орлова оба смысла срастаются вместе, предлагая зрителю цикл гибридов, объединяющих предметы повседневного обихода, труда, быта с предметами, наделенными милитаристскими функциями. При этом каждый из воинственных объектов-кентавров включает в себя программный текст: либо в виде названия-подписи, либо - непосредственно на предметной поверхности. Гибрид пушки и плуга заклинает «стрелять дальше!» и «пахать глубже!», дрель-пулемет - «стрелять дальше!», «сверлить глубже!». Империя агонизирует: соединение стула с пулеметом («Помни! Ты к ужину, а враг к оружию») возвращает зрителя к детским играм в войну, а искусство - к очередному переводу сакрального в карнавальное. Изобретательность мутирует в кунштюки. Имперский художник перевоплощается в рукодельного мастера, обреченного на ресайкл-арт (recycle art).
Записанное заглавными буквами латинское слово museum, ставшее у Орлова одним из ключевых концептов, содержит в его художественной системе не только обозначение музея как историко-культурного феномена или социокультурного института. Museum это прежде всего творческое художественное пространство музеизации и самомузеизации.
Концепт музея предполагает трагическое понимание времени, истории. Суть его выразил Шпенглер: «У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются»19. Музей, как институт овеществленной культурной памяти, - одна из таких возможностей самовыражения культуры. Сами же возможности тот же Шпенглер толкует расширительно: «египетский ландшафт уже в эпоху великого Тутмоса преобразился в сплошной громадный музей строгой традиции»20. Музеем может стать и сама культура, где вещи мыслятся сгустками человеческих отношений, носителями свидетельств и заветов прошлого.
Иное дело - музеизация: художественная стратегия, нацеленная на новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают, но вновь повторяются. Она подрывает веру в то, что каждое искусство будто бы существует однажды. У Орлова, напротив, оно в метаморфозах и возвращениях. Его (само)музеизация обнажает то, что музей камуфлирует: формирование новых контекстов взамен исчезнувших.
Художник этот мотив усиливает: в музее круг героев повторяется второй раз, но уже в новом качестве. Здесь и стянутые скобами «археологические трофеи» ранних голов, и тотемы, парсуны, имперские бюсты, и фотографии, фотоколлажи, и, конечно же, выставочные проекты. Живая память соседствует здесь с эстетикой угасания, фактичность - с фантомными болями её потери.
«Сталинский ампир» в расхожем словоупотреблении предполагает ироническое обозначение помпезной стилистики сталинских высоток, мраморных дворцов метрополитена и сведенной к декоруму монументальной скульптуры, то есть всего того, что в хрущевские времена уничижительно именовалось «излишествами». У Орлова сталинский ампир - прежде всего концепт: цепочка взаимосвязанных значений, актуализирующих и французское empire (империя), и амбиции позднего классицизма на преемство античных идеалов, и самобытный вариант русского классицизма, и, конечно, стилистику декоративной оформленности сталинской империи.
В скульптуре - это серия пяти белых фарфоровых бюстов генералиссимуса Сталина, с добавлением золотой краски (1995). Также как в «Аллее героев» портретная часть повторяется без каких-либо изменений; варьируются лишь головные уборы - заимствованные из декорума метрополитена капители, розетки, картуши, завитки валюты, рог изобилия. Лишь один из бюстов, лишенный украшений, отличается объемной материнской кормящей грудью. То, что в советском монументальном агитпропе представлялось через patria potestas (власть отца над детьми) у Орлова снижено до «ларов» - древнеримских домашних божеств-покровителей, до экспонатов кунсткамеры либо коллекционных игрушек на комоде.
Усиление декоративных элементов здесь не случайность. «Чем больше приближается большой стиль к своему совершенству, тем решительнее становится порыв к орнаментальному языку, исполненному беспощадной ясности», - заметил Шпенглер.
Именно этот орнаментальный язык и стал главным героем выставочного проекта Орлова «Архитектура с излишествами» (1998, галерея «Вельта) - цикла фоторабот, демонстрирующих ряд автопортретов в имперском стиле с татуировками и орденами, а также обнаженные женские фигуры и гербарии, объединенные фотоколлажами с декоративно-архитектурными деталями московского метро. Героика империи здесь впервые тематически эротизируется: через нарциссические образы, через фантазматические картины сопряжений и соответствий архитектоники женского тела с орнаментальными фрагментами мраморных изысков сталинской мечты, через гибридизацию живых растений с ампирными их аналогами.
Чувственные фантазии, восполненные идеологической флористикой, превращаются здесь в метафоры «органической логики» судьбы - метафоры развития растительной формы как универсальной связки неразделимости желания, воображения, плодоношения и смерти. Придуманное художником название «ГЕРБарий», также как сами образы отсылает к гибридам и гибридизации, то есть к насилию (греч. ΄ύβρις, гюбрис - насилие), к насильственной смеси, скрещиванию разных видов. «ГЕРБарий» - контаминация, основанная на смешении вербальных значений: герб как отличительный знак государства, города, сословия, знатного рода восходит к немецкому erbe (наследие), тогда как гербарий - коллекция специально собранных и систематизированных растений - к латинскому herba (трава, растение). В результате имперская аrs herbaria Орлова являет собой и травник, гербарий, ботанику, и - в качестве еще одного значения латинского herba - хлеб на корню, зрелые колосья эротической архитектуры, оживляющие окаменелые остатки отмерших форм.
Выражение «прибавочный элемент» принадлежит Казимиру Малевичу периода его учебно-теоретической деятельности. Теперь под ним обычно понимают то новое, что появляется в искусстве и меняет его. Орлов иронически переиначивает его применительно к своим практикам: «Все, что у меня появляется и есть „прибавочный элемент“. Уж такова метода моей жизни - не делать решительных поворотов, не отказываться вчистую от одного периода, когда начинается другой. Вся моя жизнь - это непрерывное умножение своего искусства на „прибавочный элемент“. Точнее не умножение, а прибавление… На предыдущей выставке в качестве „прибавочного элемента“ выступала геометрия. На этом фоне я и разворачивал свою игру, свои сюжеты. А сейчас появился другой „прибавочный элемент“ - орнамент».
Первой выставочной манифестацией «прибавочного элемента» как тематизированного и морфологически завершенного художественного метода стала инсталляция «Победа над солнцем» (2002). Выставка демонстрировала столкновение двух визуальных систем: документальной фотографии и свободных цитат из наследия супрематизма. Фотография говорила языком негативных отпечатков, супрематизм - нанесенной на поверхность фотоотпечатков раскрашенной эмалью геометрических фигур.
Интрига развертывается исключительно на поверхности листа, однако в восприятии зрителя включаются механизмы иллюзионистских представлений о пространстве, наэлектризованном грозовой энергией супрематических знаков, пространстве, в котором развертывается небесное сражение «реального» с «метафизическим»: машинерии тоталитарного милитаризма - с геометрией авангардистской утопии. При этом включается и символическое прочтение: призрачные, словно «летучие голландцы», светящиеся изнутри самолеты, вылетающие навстречу расцвеченным фрагментам образов Малевича представляются военизированными тоталитарными режимами, атакующими свободное искусство, черная же ночь беспредельного космоса - родовым лоном социально-технического и художественного авангарда.
Подобных аллегорических толкований Орлов не отвергает, но акцента на них не делает. По мере того, как кресты супрематизма удваиваются крестами воюющих штурмовиков, метапозиция художника все заметнее трансформируется в визионерство.
Той же визионерской историзации героического - на этот раз замешанной на стоической иронии - посвящена двухчастная инсталляция «Контуры времени» (2004, ГЦСИ) и «Ретроспектива» (2004, галерея XL ). Обе части инсталляции решительно противостоят прежним образам империи. В фотообъектах и скульптурах, по большей части датируемых 1999-2002 годами, представлено эпическое столкновение между черно-белой историей и ярким цветом ее забвения.
В «Контурах времени» главными действующими лицами выступили документальные фотографии героических событий советской истории 1920-1940-х годов, подпавшие под власть красно-черной стихии сувенирного хохломского узора. Безразличный к значениям и формам, скрученный в травяные пружинки растительный орнамент съедает своей ковровой поверхностью свидетельства былого энтузиазма. Величие прежних утопий - союз жертв и героизма - всё разъедается безликой силой эрозии, жаждущей поглотить любые голоса прошлого.
«Сначала, - комментирует художник, - у меня была задача сделать такую ползущую ряску по поверхности, чтобы была такая безличная, внеисторичная, природная, витальная стихия, заедающая героический сюжет, который под ним тает, сопротивляется. А потом, когда я стал использовать концентрические орнаменты, тут ворвался еще другой сюжет, ворвалась какая-то вечность, воронка, которая в себя затягивает».
Эта же патина безволия и забвения обращена Орловым и против себя самого. Вторая часть выставки («Ретроспекция») представила личный опыт художника, оказавшегося свидетелем крушения империи. Основу экспозиции составили ремейки восьми скульптурных объектов, принципиальных для всех периодов творчества. И каждый из этих объектов подвергнут испытанию на прочность органикой всё того же орнамента. Прежние скульптуры, сиявшие блеском имперских эмалей - парадные портреты, парсуны, тотемы - предстали белесыми, словно покрытыми толстым слоем пыли чистыми формами, по которым расползлись черно-красные разводы узорной ряски. Что означала эта невероятно красивая и в то же время трагическая инсталляция? Реквием по империи? Искушение новой глобальной системой? Самопроверка? еще одно героическое испытание?
Сам художник рассказывает: «Утопия рухнула, и в эту брешь ворвалась хохлома. <…> Хохлома - нечто ужасно одиозное и китчевое, работать с ней рискованно. Лично мне она представляется тошнотворной, растиражированной, затертой - на нее просто невозможно смотреть. <…> И в процессе „впрыскиваний“ в собственное искусство я понял, что справляюсь с ситуацией, мой иммунитет устойчив против данных вирусов. Я уже внутри некоей системы, как в скафандре, благодаря которому пройду межвременье, явлюсь его свидетелем и, наверное, не буду им пожран. Эта плесень мне уже не опасна».
Работа Орлова с орнаментальным языком, обернувшаяся самоиспытанием стихией орнамента - своего рода возвращение к метафизической проблематике. Хотя «подлинное» и «вечное» уже не декларируются, концептуальная морфология вновь напоминает об исходных оппозициях. Палимпсест, скрывающий в себе слои прежде написанного, отсылает к «началам». Однако эти начала (άρχαί, архай), оказываются бессильными перед превратностями круговорота истории. «Сама археология есть выражение чувства повторяемости истории», - заключает Шпенглер. Быть же в истории - значит разделять общую участь всего происходящего: принять противостояние смысла неограниченному увеличению качественно однородной сущности, названной Гегелем «дурной бесконечностью».
В символической геометрии, языком которой пользуется Орлов, круг означает модель бесконечности, идею единства и законченности, высшего совершенства, - Космос противостоящий Хаосу: фигура, образованная правильной линией без начала и конца и в каждой своей точке ориентированной на невидимый центр.
Но что это за невидимый центр?
В инсталляции «Ведьмин круг» (2010) Орлов инсценирует странное явление из жизни леса: встречу с вереницей бледных, полупрозрачных грибов, растущих по идеальной окружности. Размеры такой окружности могут быть малыми, большими, огромными (до двухсот метров в диаметре!). В народе считается, что такое место - «ведьмин круг» - заколдованное, и человек, вступивший в него, уже не может выбраться: он обречен ходить кругами, раз от разу возвращаясь на то же место.
Аллегория эта, обращенная к постимперской ситуации, несомненно подсказана работой художника с орнаментом. В привычном обиходе орнамент означает «украшение, узор» и в этом смысле наделялся у римлян особой функцией: ornamento esse civitati - служить украшением государства. Однако у латинского слова ornamentum (от orno) было и другое первичное значение - милитаристское: «снаряжение, вооружение, оружие». И уже отсюда - «знаки отличия, награды, почести; звание, титул, украшение». Орлов концептуализирует эту амбивалентность, вскрывая силу орнамента как оружия времени: «Для меня орнамент - это стихия. Самодостаточный космос, как вещь в себе и для себя, автономно существующая в своей внутренней системе, законченная глобальная целостность. Когда я начал внимательно изучать орнаменты, то понял, что все они сводятся приблизительно к одному модулю - соединению, умножению и стремлению к дурной бесконечности. Ситуация абсолютно внеисторическая, а посему вечная».
Чем завершается этот бесконечно умножающий себя орнаментальный палимпсест?
Сгущением, непроницаемой чернотой - отвечает большой цикл работ Орлова последних лет «Опыты реставрации». На этот раз известный зрителю мир его скульптур - тотемов, парсун, парадных портретов - предстает черными досками и, подобно древним иконам, «раскрытыми», «расчищенными» музейными реставраторами. Здесь археология «постметафизическая», следуя символической геометрии круга, окликает археологию времен «метафизики», напоминая нам о терракотовых обломках, возвращенных художником из неведомых раскопов и собранных его рукой для будущего музея.
V. ПРЕДПОСЫЛКИ ИСТОЛКОВАНИЙ
Концептуально значимые толкования творчества Бориса Орлова неразлучны с подсказками интеллектуальной моды. На переломе шестидесятых-семидесятых годов ключевым словом была «метафизика». С середины семидесятых, - восхищаясь способностью художника объединять традиции авангарда с архаикой, поэтику барочной взволнованности с жесткостью конструктивизма, наследие древних верований с советской социальной мифологией, - заговорили о «соц-арте», об «архетипах», о «структурализме», «семиотике», бахтинской «карнавализации». Позднее в ход пошли «интертекстуальность», «постмодернизм», «деконструкция», «концептуализм».
Сегодня разнообразие прошлых интерпретаций свернулось в медийные формулы: «Борис Орлов - один из пионеров движения соц-арта»; «классик соц-арта, неустанный певец прелестей „имперского стиля“»; «герой соц-арта»…
Герой и классик - титулы, безусловно, справедливые, заслуженные. Действительно, в отечественной скульптуре Борис Орлов - первопроходец.
Все сделанное им - абсолютно оригинально, значительно, независимо. Однако именно потому апелляции к одному из направлений тут мало что разъясняют. Да, герой. Конечно же, классик, пионер, первопроходец. Но неужели - всего лишь соц-арта?
Лучшей подсказкой к развернутым ответам могут стать два больших выставочных проекта, осуществленные Орловым в последние годы. Первый - ретроспективная экспозиция «Воинство земное и воинство небесное» (2008) в Московском музее современного искусства, второй проект - экспозиция «Круг героев» (2010-2011) в Музее истории искусства Вены.
V.1. «Воинство земное и воинство небесное»
Ретроспектива Бориса Орлова, расположившаяся на четырех этажах, продемонстрировала широкой публике то, что прежде было известно лишь друзьям и ценителям скульптора: сменявшие друг друга темы, манеры, подходы - вопреки очевидному разнообразию - являют собой поразительную устойчивость художественного универсума.
В широком огляде творчество Орлова представляется гигантским триптихом, где каждая из частей ансамбля одновременно и обособлена, и продолжена последующей. Так, период экзистенциально-метафизический, как будто бы «отмененный» периодом культурологической метапозиции, в действительности не исчезает, но, пройдя искус насыщения рефлексией, иронией, карнавалом, возвращается периодом музеизации - концептуальной переоценкой собственного искусства в контексте новых вызовов.
Выставочная авторепрезентация четко выявила скрытую логику творческих этапов. Первый - тонический: период натянутой струны героической экзистенции, утверждения «я» художника на путях метафизически истолкованной морфологии.
Второй - период метапозиции, вынесения «я» за скобки - посвящен концептуально-культурологическому исследованию художественной морфологии как инсценируемой тотальности места, знака и сущности. Именно здесь метафизическая аутентичность, представленная художником средствами конструктивистских редукций, примиряет на себя новые маски, мундиры, статусы, роли. В этой же фазе постметафизического анализа и появляется фигура «имперского художника».
Третий этап - возвращение Одиссея: возвращение героико-демиургического «я» к ретроспективному самосвидетельству. Метапозиция восполняется прояснением авторской позиции, ирония - самоиронией, голос травести - собственным голосом. «Вполне возможно, - рассказывает Орлов, - что дальше я превращусь из художника, как бы вынесенного за скобки, в художника внутри скобок. В искусстве от поп-арта до 1990-х годов художник зачастую выносил себя за скобки, он как бы руководил текстом, но себя не обозначал, не обнаруживал собственных эмоций. А сейчас я чувствую, что этот период подходит к концу. И это первый опыт с ретроспекцией, внесение себя, моего голоса внутрь текста. Я опять с голосом Орлова, а не травести».
В этом признании, продиктованном потребностью прояснить взаимосвязь новой художественной позиции этапа ретроспекции с позициями предшествующими, важно не только авторское обозначение собственного места («за скобками», «внутри скобок»), но прежде всего то, что скобки по-прежнему открываются и закрываются самим художником. Многоуровневая инсталляция «Воинство земное и небесное» - предложила зрителю еще одну парадоксальную игру со скобками. На этот раз - в воображаемом пространстве диалога зрительских истолкований с авторской самоинтерпретацией. Находящийся в руках читателя монографический альбом этот диалог продолжает.
V.2. «Круг героев»
Выставка Бориса Орлова «Круг героев» (2010-2011) в венском Музее истории искусства (Kunsthistorisches Museum), осуществленная совместно с московским фондом Stella Art Foundation, располагалась в залах всемирно известной коллекции греческого и римского искусства. Герои античного мира и современного московского искусства соседствовали бок о бок. Ничего от разрушительной интервенции: мраморные скульптуры и рельефы, казалось, сами включились в диалог с яркокрашеными орденоносцами и спортсменами. Получилась большая инсталляция про старое и новое.
Тема выставки - культурологическая: неизбежная смена имперских «восходов» и «закатов». Каждая империя проходит свой круг чредований - рождение, триумф, падение, погружение в первичную материю, приход на смену новых героев и нового цикла… И так - круг за кругом. Неизбывным остается лишь культ героизма. Драматизм, сопутствующий миру героев, Орлов усилил специально сделанной для выставки бронзовой головой с двойным названием: «Велизарий (Георгий Жуков)» (2010). Скульптурный портрет византийского полководца, ложно обвиненного в заговоре против императора, с узнаваемыми чертами маршала Жукова, увенчанного лавровым венком и удерживаемого от разрушения грубыми «археологическими» скрепами, - тоже своего рода круг героев: чредование восхождения и немилости, триумфа и гибели.
В круг героев, несомненно, должен быть включен и сам автор: он принял вызов музейной классики и с честью выдержал испытание.
Для истолкования дела художника венская выставка-инсталляция имеет существенное значение. Во-первых, она продемонстрировала, что Орлов владеет классической формой, которая и позволяет ему пользоваться любыми регистрами художественной выразительности. Во-вторых, она показала, что его искусство принципиально диалогично, что в столкновении живого с «вечно живым» оно соотносимо с корневыми проблемами мировой культуры и её современности. Наконец, в-третьих, выставка оказалась убедительным аргументом в пользу безусловной уникальности московского художественного мира: в лице Бориса Орлова наше искусство преодолело разрыв времен и подтвердило право говорить о себе в полный голос.
В таком контексте несомненный интерес представляет комментарий музейного куратора выставки - Бориса Маннера. Он сумел подметить то, что никак не удается уяснить отечественным интерпретаторам: 1) искусство Бориса Орлова - не политическое искусство; 2) истолкование его произведений не может быть сведено к единственному началу, например, к соц-арту; 3) смысловое содержание «образа» вмещает больше, чем непосредственно данное в самом произведении содержание.
Поскольку последний тезис нуждается в аргументах, цитирую авторские пояснения: «Орлов сплетает в своих работах мотивы, принадлежащие различным системам интерпретации. <…> Эта сверхдетерминированность художественного акта ограничивает любое истолкование, если оно стремится к сведению таких комплексных произведений к единственному началу. <…> Взаимно проникающие, но взаимно непереводимые системы знаков отменяют действие соответствующих упорядочивающих систем и обуславливают таким образом нарушение значения, так как одновременно справедливыми и действенными являются две грамматические системы в одном тексте. Это столкновение чуждых друг другу контекстов упраздняет соответствующие смыслы, вследствие чего рождается изолированный эстетический знак. Таким образом, работы Орлова показывают наглядно, что смысловое содержание «картины» (“Bildes”) вмещает больше, чем непосредственно данное в самом произведении содержание. И дальше - реальности произведения соответствует „ирреальность“ смысла».
Соединение в одном произведении («тексте») двух одинаково справедливых грамматических систем, порождающих изолированный эстетический знак, конечно же, не изобретение Бориса Орлова. Вспомним хотя бы дадаистов или сюрреалистов. Художественная система Орлова предполагает ориентиры другого рода. На примере узловых концептов можно видеть как самые разнородные, предельно удаленные друг от друга элементы вступают в отношения взаимного прояснения, перевода, комментария. И поскольку способность Орлова к соединению несоединимого остается неистощимой, к его эстетическим ориентирам, а вместе с ними и к его художественному методу справедливо обратиться еще раз: для понимания его творчества они имеют узловое значение.
V.3. Эстетический поворот: еще раз о «метапозиции»
Совмещение в одном произведении «двух одинаково справедливых грамматических систем» не обязательно предполагает непереводимость, абсурд либо шизофрению. Советская культура жила двоемыслием, глубоким расколом на официоз и подполье. Осознание этого двоемыслия и его последствий, введение его в зону критического анализа, его инсценирование средствами искусства - всё это составляет существо эстетического поворота семидесятых годов. С него начинается эпоха нашего критического искусства, обычно замешанного на карнавальной закваске.
Эстетической точкой опоры для Орлова явилась оптическая метафора: точка наблюдения: «Я назвал эту точку метапозицией. Это та точка, с которой воспринимаешь не только объект, но и себя как объект. То есть я как объект ситуации и как объект наблюдения одновременно»29. Следующий шаг - применение архимедова рычага: художественный метод инсценирования двоемирия социального и субъективного.
Биографически всё началось с резкой смены оптики, настроенной прежде на метафизическую проблематику. В 1976 году Дмитрий Пригов, друг детства Орлова и товарищ по скульптурному ремеслу, написал два четверостишия, посвященных сферическим композициям:
Художник нам изобразил
Пространство как изнанку шара
Его он яростней пожара
Куда-то в центор устремил
И утверждает, что он прав
Что человечий глаз так видит
Так мало ли, чего он видит
Так мало ли, когда он прав
И первая строка, отсылавшая к Мандельштаму, и две последние предполагали нечто большее, нежели иронический корректив к позиции художника. Оспаривая правоту метафизического взгляда, Пригов оспаривал претензию на последнюю истину. В семидесятые годы такого рода релятивизм превращался в общее мировоззрение с далеко идущими обобщениями:
Нет последних истин - все истины предпоследние
И в смысле истинности и в смысле порядка следования
Борис Орлов вспоминает: «Художники моего поколения пережили резкий перелом в начале 70-х годов. Предшествующая парадигма исчерпалась. Ее ценности девальвировались в избыточности романтических проявлений. Бесконечные претензии на последнюю истину выглядели уже смешными.
И вот тогда Пригов заменяет последнюю истину на предпоследнюю. Это была революция. А потом в долгих разговорах выболталась вдруг идея и метапозиции. Это тоже что-то значило. И мы не ошиблись, правильно угадав вектор движения».
Термин «метапозиция», в ту пору предложенный Орловым для обозначения нового понимания места и роли художника, предполагал методологическую взаимосвязь оптики дистанции и рефлексивного сомнения по отношению ко всякой монополии единственно-правильной, строго-фиксированной точки зрения. При этом под рефлексией, в соответствии с исходным смыслом латинского термина re-flectio, следует понимать не только «обращенность назад», «возвращение», «оглядку», «воспоминание-размышление», но также переосмысление уже помысленного, перерассмотрение уже освоенного. Опыт же освоенного следовал за общекультурным поворотом к анализу знаковых систем как искусства, так и повседневности. В советской России новаторские художественные практики, основанные на такого рода анализе, опережали и семиотику, ориентированную преимущественно на литературные памятники прошлого, и даже - горизонт эстетических ожиданий.
Для Орлова же принцип метапозиции - дистанции, вынесения себя за скобки - позволил смотреть на искусство как систему конвенций, не нуждающихся в легитимации со стороны «последней истины». Отсюда - модель языков-и-метаязыка: языков культуры, искусства и языка «второго порядка», используемого для описания и анализа языков искусства средствами искусства. Соотношения метафизического и социо-культурного стали обретать другие - концептуальные конфигурации. Притом, что важнейшим сюжетом художественной драматургии по-прежнему оставалось основополагающее дело скульптора: формообразование. Однако теперь понятие формы стало героем концептуальной морфологии, представляющей художественную аналитику взаимозависимости формообразования, формоизменения и формоприменения. На основании такой аналитики и строились модели и «правила» для «имперского художника».
Это вовсе не означало возвращения к моноязыку. Речь шла о своего рода сценографии, изобретенной художником-режиссером. Так, в 1979 году, в пору работы над парсунами, Орлов писал: «Что касается решения вещей, то я остаюсь по-прежнему конструктивистом. Цвет в моих работах является частью всей конструкции и разрешает главный смысловой узел».
Разумеется, «конструктивизм» Орлова - вовсе не реставрация стилистики 20-х годов. На деле имеется ввиду всё та же метапозиция - одна из доминантных составляющих общего эстетического поворота начала 70-х.
Еще раз: поворот этот готовился в ту пору самыми разными художниками, стремившимися переосмыслить вызывающий опыт американского поп-арта. В широком смысле это был поворот к знаковому пространству культуры, к необходимости разведения двух языков, прежде неразличимых в сознании художника: языка непосредственно-интуитивного, «детского», наивно-мифологического и языка дискретного, рефлексивного, операционального, способного формировать более сложные модели, нежели те, что эксплуатировали спонтанность артистических самовыражений. В той же мере это был поворот к местной культуре, художественное переосмысление которой требовало новой системы координат: дистанции, позиции отстраненного взгляда, новых принципов и приемов обработки тем, ролевых инсценирований, антипсихологизма, иронии и самоиронии, изощренной игры с контекстами.
Для Орлова дело не ограничивалось пародийными цитатами или партийным кумачом. Он принципиально отказался от апроприации соцреализма как способа произвольного уравнивания продуктов агитпропа с искусством. У Орлова, признающего заслуги и Дюшана, и Уорхола, более сложный путь преобразований: обширный материал советской культуры всегда представлен в его системе либо историческими, либо архетипическими моделями, опять-таки сконструированными художником. При этом всё непосредственное переведено в знаки, отсылающие к другим знакам и, соответственно, к другим цепочкам коннотаций. Художника Орлова занимает не власть, но концепция власти, не портрет, но идея портрета, не экзотика советской культуры, но глубинные первоструктуры, не те или иные готовые формы, но само влечение к ним, запускающее механизмы конструирования гештальтов культуры. Это же относится к риторическим фигурам идеологического китча, воссоздаваемого, словно по рецепту Бодрийяра, из чрезмерного изобилия знаков, аллегорических референций, разнородных коннотаций, экзальтации в деталях и насыщенности деталями.
VI. ГЕРОИКА ИМПЕРИИ
«Большой стиль», «империя», «имперское искусство», «имперский художник»… Читатель, должно быть, уже привык к этим словам и словосочетаниям.
Однако, вопреки частому использованию этих ключевых концептов, было бы опрометчиво считать их существом творчества Бориса Орлова. Все эти сюжетообразующие концепты - лишь способы инсценирования собственных художественных задач.
Главная же тема, сквозное содержание всего наработанного Орловым, - будь то циклы скульптур, инсталляций или фотографий, - можно свести к двум словам: героический миф. Разумеется, миф, представленный зрителю сквозь оптику постмодернистской рефлексии. То есть рефлексии различий и повторений, критически недоверчивой к утверждению всякого рода тотальностей. Именно поэтому фигуры тотальности, представленные в искусстве Орлова, скажем, концептами большого стиля или империи, всегда населены сразу несколькими языками.
Авторитарная власть исключений и тождеств отменена игрой репрезентаций.
VI.1. Эстетика имперскости: стиль и архетип
Одна из главных трудностей эстетической конструкции Орлова состоит в том, что сцена «имперскости», на которой разворачивается героическое действо с участием Искусства, Метафизики, Судьбы, предоставлена не только прямым смыслам, но также и скрытым за эффектными репрезентациями символическим замещениям. Прежде всего, речь идет о замещениях того возвышенного, которое, согласно Канту, мы можем мыслить лишь связав чувство возвышенного с эстетическим энтузиазмом.
Собственно героическое в эстетике Орлова и есть то, что побуждает мыслить недосягаемое посредством изображения энтузиазма героической воли к беспредельному могуществу как полноте возрастания и мощи. При этом, напомним, слово «империя» берется в двойном значении: в буквальном, лексическом и - одновременно - в качестве основополагающей культурной модели, продуцирующей фетишистские образы «имперскости». В первом значении речь идет о власти как таковой (лат. imperium буквально означает «имеющий власть, властвующий, господствующий, сильный, повелительный, деспотический»; ср. imperator - «повелитель, властелин, глава, полководец, победитель»), во втором - о модели, рождающей и репродуцирующей образы господства и героики, идейно побуждающих к эстетическому энтузиазму. Подразумеваемые возможности этих двух аспектов замещений воли к могуществу и инсценирует своим искусством ролевой «имперский художник» Борис Орлов. С одной стороны, циклами артефактов, демонстрирующих архетипические иконы власти, образы величия, победы, триумфа, коллективной солидарности, силы и славы, с другой - верностью идее героического, способной преобразовывать материал искусства в энергии эстетического энтузиазма.
Художественный универсум империи, спроектированный Орловым в середине семидесятых, - главная сцена его героического мифа и вместе с тем совокупность разнообразных тематических цепочек, втягивающих зрителя в остроумную игру визуальных кодов. Мы уже отмечали выше, что одни из них отсылают к культурной памяти (например, к триумфализму древнего Рима, риторике петровских преобразований, фасадной симметрии ампира, пафосу авангардистских утопий, гротеску сталинской орнаменталистики), другие - к актуализации содержаний этой памяти в циклах собственных работ скульптора. Последняя отсылка особенно важна: ведь именно на основе собственной работы и осуществляется Орловым «имперский» синтез разноречивых, порой взаимоисключающих друг друга начал.
Сугубо личностный характер такого синтеза упраздняет любые намеки на эклектизм. Напротив, здесь доминируют стилистические преобразования деконтекстуализованных элементов прошлого в нечто особенное: в узнаваемые и всегда непредсказуемые сплетения художественного «империализма языка» с языком воображаемой империи. И стиль, и логика этой непредсказуемости также тематизированы. Ведь все акты синтеза и преобразований становятся возможными лишь благодаря исключительной роли эстетического - устойчивой совокупности общих оснований и чувствований, закрепленных в исторических формах художественной воли.
Иначе говоря: всякий раз инсценирование предполагает не столько артефакты империй (готовые или найденные объекты), сколько сам «дух империи» - эстетику имперскости. Тем самым эстетическое, приравненное художником к «внеэстетическому» прошлых авангардов, обращено в исходный материал для авторской переработки: то средствами монтажа и рекомбинаций, то контрастами крайних противоречий, то путем более сложных трансформаций. Но всякий раз Орлов не забывает напомнить о более глубоких пластах: первообразах, образцах, эталонах, моделях, архетипах - ведь только таким образом эстетическое являет свою наглядную плотность материала.
Разыгрывая участие в повторениях архетипов, Орлов придает эстетике имперскости статус архаической онтологии, для которой реальное и осмысленное обретается лишь путем ритуального воспроизводства. Так было и в советскую эпоху: реальность великого, победоносного, героического удерживалась исключительно силой коллективного повторения, всеохватного репродуцирования, самотиражирования. Однако, если в архаике реальное существование достигалось через стирание индивидуального в пользу общего, эталонного, повторяемого, парадигмального, то у Орлова архетипическое служит обратной цели - выявлению именно своего, всецело личностного, крайне индивидуализированного художественного универсума.
При этом Орлов ориентирован не на образцы соцреалистического искусства и его стилистику, по отношению к которым столь естественны жесты осмеяния, пародирования или окарикатуривания, но на концептуальную морфологию: конструирование «универсалий». В конечном счете, именно такая «универсалия» - эстетика великого и возвышенного, взятая в ее героическом модусе - и разрастается до общего тематического репертуара всех работ Орлова. Тем же репертуаром охватываются сюжетные и фабульные комплексы, связывающие отдельные работы и циклы в тематические парадигмы. В такой перспективе даже самые ранние скульптуры, предшественники имперских парсун и тотемов, остаются в рамках героической эстетики - как мы помним, по преимуществу экзистенциалистской.
Начиная с середины 70-х логика инсценирования «эстетики империи» объединяет экзистенциалистское измерение с художественными образами «великого стиля» как мира выдающихся заслуг и деяний, высокого мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию. Героическое дано здесь в эпическом, триумфалистском, пафосном, помпезном ключе визуального красноречия.
VI.2. Инстанции героического
Героическое - замещение возвышенного. Идет ли речь о воинской героике или о воле к империи, о величии подвига или о его славной памяти - все подразумевает несоизмеримое, необычное, превосходящее по размерам, силе и значительности любое единичное явление, его воплощающее. Всякий раз горизонт возвышенного придает героическому эпический размах.
В искусстве Орлова языком героического наделены три инстанции: воображаемая империя, воображаемый имперский художник и вполне реальный художник Борис Орлов, придумавший то и другое. Однако было бы опрометчиво свести все дискурсы к прямым авторским высказываниям. Автор искусно пользуется техниками смены кодов, игры прямых и дополнительных значений. Ведь каждая из героических инстанций - плод художественной рефлексии, фиксирующей не только заданные сходства, но также различия и границы.
Архетипический герой - персонаж перехода, пересечения порога между мирами: отлучения от мира обыденного и перехода в мир мифический, ауру которого герой, носитель солнечных форм жизни, сохраняет по возвращении из любой области тьмы. Именной этой аурой хозяина двух миров, способной удерживать то, что обычно подразумевается под символизмом героя, призванного воплощать в себе черты полубога, обожествленного человека либо, говоря словами учебников, «образ эпохи и среды», и сохраняется энергия героического.
В России слово «герой», отсылавшее к латинскому heros, известно с начала XVIII века. Правда, в соответствии с правилами «высокого штиля», бытовало оно в ту пору еще и в форме ирой. Книжный «высокий штиль» - проницательное соответствие «героическому энтузиазму» (не столько героике философа-реформатора Джордано Бруно, сколько ироике строительства империи): отваге, храбрости, доблести, самоотвержению. «Пою премудраго Российскаго Героя», - витийствовал Ломоносов. Веком позже слово «герой» подразумевало преимущественно военные значения, окрашивая в их тона и другие контексты: храбрый воин, доблестный воитель, витязь, богатырь, чудо-воин, доблестный сподвижник, борец за что-либо. Соответственно «геройский» означало славный, отважный, отчаянно-смелый, доблестный, а «геройство» - славную отвагу, самоотвержение. Советский период добавил «героику революционных преобразований», «героический образ большевика», «героическую борьбу народов за идеалы коммунизма» и, конечно же, почетное звание героя, присваиваемое за исключительные заслуги, - еще одно наслоение в риторике имперских самопереиначиваний.
У Орлова тематика перехода вправлена разом как в «ироику» высокого стиля XVIII века и воинских доблестей последующих времен, так и в перспективу классического героического эпоса с его циклизацией эпических сюжетов, с его эпическим стилем, с его типическими формулами, повторениями, постоянными «украшающими» характеристиками или соответствиями. Сюда же включена линия биографическая: тема детского удивления и восторга, восхищения героями, моряками, летчиками, военными. Все они - герои - носители сказочной силы, доблести и мужества. Примечательно: мужество слово книжное, калька с греческого τό άνδρειον (мужество; ср. старославянское мужьство) - собирательно общее обозначение всякого мужского поступка. Для Орлова таким мужским поступком выступает дело скульптора (ср. ή άνδριά - «мужество, храбрость, неустрашимость, мужественный образ мыслей или действий»; ό άνδριάς - изображение человека, статуя и ό άνδριαντοποιός - «делающий статуи, ваятель, скульптор»). И скульптор и скульптура не только повествуют о героическом, они сами - сфера героического. Не случайно, здесь властвует все тот же архетипический мотив перехода - мотив преодоления препятствий и трудностей на пути к достижению целей.
VI.3. Конец истории?
Вместе со скульптурой в героический миф вплетена и судьба художника. Автор - неустранимая часть мифа, его важнейшее звено. И не только потому, что изображает себя на фотографиях императором, а свое дело - конструированием имперского стиля и триумфалистской восторженности. Для Орлова «само существование художника является иллюстрацией героической ситуации». Это убеждение, быть может, наиболее устойчивый элемент всей его жизни, его творческого пути, его художественного универсума. Так было во времена юношеской переоценки всех ценностей, так остается и по сей день: всё то же внутреннее напряжение, энтузиастическая целеустремленность, риск непроторенных путей, переходы между различными культурными мирами.
Тогда, в начале - в условиях абсолютного одиночества, без учителей и покровителей, без корневой системы современного мирового искусства - главным движителем было юношеское стремление найти верный тон, натянуть струну, настроить инструмент. Отсюда - аскеза герметического периода развития: сложное познание и ожидание перехода в другое состояние - состояние безусловного искусства.
Ощущение сферической скорлупы, которую надо героически - напряжением всех духовных сил - разломать, опровергнуть, объяснить. Но что положить в основу объяснений: «вертикаль» - главный вектор духовного существования? или - риск неопознанных пространств за границей расколотой оболочки? Любой ответ окрашивается в экзистенциально-героические тона.
Позже, уже в зрелый период развертывания возможностей метапозиции, когда-то подсказавшей концепцию имперского мифа, Орлов называет свой индивидуальный экзистенциальный опыт «абсолютно неуязвимым». Осознание победы над чудовищем - тотальностью коллективных установлений - превратило эту неуязвимость в ресурс героических инициатив. И действительно, выводя на сцену «имперского искусства» символические образы целостности сознательного и бессознательного, Орлов не просто нарушал табу времен «разрядки» и демократической риторики, но и выступал конструктором альтернативного мира непроявленных реальностей. Империя, имперская тема, имперские мотивы - всё это, наряду с «советским империализмом», в публичном пространстве было заведомо невозможным, недозволенным, непроходимым. «Но чем более недозволенными были такие мотивы, тем более они были сладостными, тем сильнее к ним хотелось вернуться. Я брался за вещи абсолютно невозможные, запрещенные. Я взял „имперскую“ тему как абсолютно невозможную, как заведомо непроходимую! Тем самым я перерубал себе биографию вчистую, навсегда».
Видимое поражение («навсегда перерубал себе биографию») в героическом мифе - оборотная сторона победы. Заброшенность, одиночество, забвение, небытие - обязательные условия перехода, после выполнения которых мифический герой возвращается заново рожденным, исполненным величия и созидательной силы. Возвращается, конечно же, за порог истории: в область мифа и архетипа. Но что может означать современность искусства за пределами истории? Миф в ряду других мифов? Или - их демифологизацию? Миф чужд истории, поскольку не знает единичного необратимого события; в мифе история заменена историзованными повествованиями, нарративами. Напротив, личностный экзистенциальный опыт всегда историчен, всегда обусловлен конкретностью здесь-и-сейчас. В этом смысле христианская борьба с язычеством есть борьба за историю, в конце концов ведущая к самой радикальной демифологизации, в том числе внутри самого христианства. С искусством нечто похожее.
Орлов хорошо осознает экзистенциальную диалектику героического. И в той мере, в какой героическое принадлежит архетипическому, его время теряет характеристики историчности. Архетипическое время сродни пространственным законам сферы, где, согласно гностикам, «образ того, кто внизу, тот же, что и у Вышнего». Это время следует порядку повторений, воспроизводства, вечного возвращения. Такое время, а вместе с ним миф о «вечном возвращении», по словам Мирча Элиаде, свидетельствуют об онтологии, незатронутой проблемами становления:
«Время всего лишь делает возможным появление и существование вещей. Но никакого решающего влияния оно на их бытие не оказывает, ибо оно само постоянно возрождается… В определенном смысле можно даже сказать, что в мире не происходит ничего нового, ибо все, что есть, - это всего лишь повторение прежних первичных архетипов; повторение, актуализируя мифическое время, в которое было совершено архетипическое деяние, постоянно поддерживает мир в одном и том же всеобщем изначальном времени».
В конечном счете и оно стирается временем природы: временем-забвением, поглощающим всякое деяние, всякую историю, всякую память, в том числе память о героях. В поздних инсталляциях Орлова («Контуры времени», «Ретроспекция», 2004) тотальность забвения олицетворяется растительным покровом орнамента. Ползучая бесконечность самоповторяющегося орнамента - образ «равнодушной природы», отсылающей к метафизической первоматерии (materia prima), из которой все произошло и в которую все должно вернуться для последующих трансформаций…
Нетрудно догадаться: миф конца истории, также как сам героический миф - различные модификации исходной метафизики, которой Орлов нашел совершенно неожиданные соответствия в современном искусстве. Прояснение логики и техник выстраивания таких соответствий - следующий шаг нашего обзора. Однако уже и сейчас экзистенциальная метафизика сама подсказывает ответы. Так, разглядывая и продумывая инсталляцию «Парад астральных тел», где из черного квадрата вылетают анонимные сущности, которые по мере самораскрытия обращаются в белые птицы-ордена, невольно припоминается комментарий Жиля Делёза к Марселю Прусту: «Сущности, быть может, сами являются узницами, обернутые душами, которые они индивидуализируют. Они существуют только в этом плену, но они неотделимы и от „неизвестного отечества“, которое они сворачивают вместе с собой в нас самих. Они - наши „заложницы“: сущности умирают, если умираем мы, но если они вечны, то и мы некоторым образом бессмертны. Таким образом, они делают смерть менее вероятной: единственное доказательство бессмертия, единственный шанс его обрести - эстетический. Следовательно, два вопроса связаны фундаментально: „Вопрос о реальности Искусства и вопрос о реальности Вечности души“»40. Похоже, оба эти вопроса для Орлова и есть скрытое содержание героического мифа. Искусство инсценирования и метапозиция тому нисколько не противоречат.
VII. ПАРАД И КАРНАВАЛ
Сколь бы значительными не представлялись измерения экзистенциальной метафизики, они не отменяют других, не менее увлекательных сюжетных линий.
Одна из них - структурная организация художественных практик. В самом общем виде она виделись нам единством актов деструкции-сборки. Однако контекст героического мифа, введенный Орловым, вносит уточняющие коррективы: преодоление героем хаоса и вступление в царство космоса неотделимы от миссии перехода. По образцу этой миссии героя издревле устанавливались и ритуалы перехода, призванные «перевести» индивидуума или группу из одного качества в другое, из одного временнóго и пространственного измерения в другое.
И в скульптурных инсталляциях, и в отдельных работах Орлова аналогия с такого рода ритуалами вполне прозрачна. Во всяком случае, для истолкований логики и техник, связывающих собственное дело художника с проблематикой современного искусства, она достаточно продуктивна. Прежде всего речь идет о взаимосвязанности парада и карнавала.
VII.1. Смотр и желание
Каждую свою персональную выставку Орлов мыслит как инсталляцию. И каждая инсталляция обращается в своего рода парад - «задержанное торжество» (испанское parada - «остановка движения, пауза, местопребывание» от parar - «останавливаться, задерживаться»), на котором незримым присутствием возвышенного инициирован торжественный смотр новых конфигураций героического строя. Наглядной моделью такого рода парада может служить «Пантократор» (1990), составленный из гигантских орденских планок и многократно повторенного приказа-окрика «Стоять смирно!». Той же модели соответствуют и другие инсталляции.
Однако в каждом таком смотре, инсценированном Орловым, присутствует не только высокое, замещенное униформой, титулами, иерархиями чинов, погонами, орденами и лентами, но также карнавальное. Высокое у него всегда соединено с восторженностью низовых стихий, которыми как бы переворачивается церемониальная однозначность парадного строя. Таким низовым может быть модель детского или наивного восторга перед «самым-самым»: «почти детски-дикарское представление о том, что степень яркости и блеска мундира и знаков отличия - прямой показатель степени значимости личности. Самый блестящий - самый главный!».
Точно также им может быть и «народная» версия агитпропа: безыскусная рука умельца, на свой лад возводящая в пафос холодную меру официоза. Пафос, подтвержденный подсказками гипербол: женщины с широкими плечами и стальной грудью, мужчины с мощными кулаками и сияющая от праздничных лучей детвора. Вся эта народная адаптация имперской идеологии, взятая на уровне мифологических архетипов и есть один из моментов ритуала перехода.
Опять-таки, и здесь заметна линия отличий от спровоцированных соц-артом техник осмеяния. Орлов не пересмешник, не шут, не скоморох. И, конечно же, не сатирик. Он не пародист; его амплуа - травести. Полнота инсценирования имперского принципа побуждает его представлять оба образа героической воли: заданной высоким искусством и - реализованной карнавальным энтузиазмом.
Существенно: карнавальное для Орлова - не стихийный мир безудержного смеха и дионисийского разгула, но логика оборотной стороны, изнанки, инверсии, предполагающая игровое переворачивание иерархий и отношений, перестановку дозволенного и запретного, высокого и низкого, важного и пустого - смешивание, гибридизация, каверзы, антагонизмы, противоречия. Если здесь и есть что-то от Бахтина, то в первую очередь - противостояние хмурой серьезности, насмешка над страхом, веселая наука неоднозначности.
Имперский триумф власти с необходимостью переходит к своему иному - оборачивается властью желаний. Собственно, логика карнавала - это и есть логика желания, направленная на модификацию одних форм и организацию других. Тем самым желание не отменяет закон, но срастается с ним. И здесь естественно спросить: если карнавал есть лишь стадия перехода от закона, представленного парадным смотром к желанию, то что должна содержать заключительная фаза ритуала перехода - воссоединение?
VII.2. Поэтика контрадикции
Прежде всего: ни художник Орлов, ни эпический герой, который проходит через отделение, задержку-приключения за пределами обычного, а затем воссоединяется со всем прежде отлученным, ни ритуалы перехода, которые напоминают об этом архетипическом пути героя, вовсе не мыслят посредством выводимых друг из друга логических категорий. Скорее здесь нечто похожее на антитетический метод Фихте: антитезис не выводится из тезиса, а ставится рядом с ним как его противоположность. Воссоединение, которым завершается возвращение героя мифа или ритуальная инициация, также не отменяет памяти о прежних противоречиях и противоборствах. По существу, всякое героическое повествование есть напоминание о контрастах, антагонизмах, напряженных противостояниях. Победная слава героя их только высвечивает, закрепляет, эпически монументализирует.
Структура почти каждого произведения Орлова, будь то инсталляция или отдельная скульптура, воплощает сходную модель. И это понятно: ведь герой и героическое здесь вместе: и сам художник, и мифология искусства. Предложенные толкования - парад и карнавал, героическая миссия и ритуалы перехода (отделение, испытание-задержка, победа-перерождение, воссоединение), закон и желание - все это разные аспекты многомерной концептуализации, осуществленной Орловым по отношению к собственному художественному опыту, творческому пути, проблематике современного искусства на стыке модернизма и постмодернизма.
Один из важнейших узлов такой концептуализации - демонстрация бинарных оппозиций и контрадикторная организация этой демонстрации. Здесь - ключ к общему художественному методу Орлова.
Первое программное утверждение принципа бинарной оппозиции - «Бюст в духе Растрелли» (1973-74): одновременное развитие внутри единого произведения систем строгого «классицизма» белых геометрическия форм и - бурного «барокко», дробящегося сложно-профилированными и разноматериальными элементами. Последующие скульптуры развертывают другие возможности противопоставлений: лицевая, «фасадная» сторона, придающая вещам притягательный, обманчивый блеск и - сторона оборотная, «приватная», контрастирующая своей мнимой «необработанностью»; сложная форма и - перекрикивающий её энергоемкий цвет, рвущийся из своих пределов; текстура натурального материала и - эмалевая его закраска; суровая геометрия и - «живописная», прихотливая игра света и тени; строгая экономия конструкции и - гротескная избыточность деталей, умноженных знаков; стилистика супрематизма и - сталинская декоративность; пафос классики и - сувенирный китч хохломского орнамента… Список подобных дихотомий заинтересованный зритель легко продолжит.
Однако, наряду с демонстрацией бинарных оппозиций исключительное значение принадлежит логике ее художественной организации, которую правильнее всего назвать контрадикторной.
Обычно под контрадикцией подразумеваются противоречащие друг другу, взаимоисключающие суждения, нарушающие законы логики, согласно которым высказывания не могут быть одновременно истинными и одновременно ложными. Однако в искусстве наличие таких взаимоисключающих суждений - явление обычное. Так, глядя на портрет мы можем утверждать, что изображение «похоже» и «непохоже», или что персонаж «узнаваем» и «неузнаваем» одновременно. Наглядное противоречие здесь не исключает «третьего» («либо - либо, третьего не дано»), но, напротив, именно этому «третьему» и потворствует. Кроме того, контрадикторные высказывания можно истолковать путем расподобления: в одном отношении так, в другом иначе: в одном отношении - друг, в другом - враг, за одни свойства люблю, за другие - ненавижу.
Орлов переводит котрадикторность из статуса особого случая в основополагающий сюжетный принцип, с которым и соотносит свой художественный метод, манифестирующий «метапозицию». В результате рождается особый «возможный мир» без иных ограничений, кроме собственных условий существования. Двузначная логика отменяется парадоксальной логикой возможных миров, несовпадающей с законами действительного мира.
Так, согласно этой логике, например, «Иконостас» (1974 ), как уже говорилось, в одно и то же время - рельеф и не-рельеф: рельеф - поскольку голова выдвинута относительно плоского фона и не-рельеф - так как кроме голов здесь всё нарисовано на плоскости. Таковы же парадные бюсты: это бюст и одновременно не-бюст. Либо парсуны: портрет и не-портрет. Или сама скульптура: и станковая и монументальная разом. Или статус классики: она и классична и не-классична. Или: архитектурность и не-архитектурность живого женского тела, совмещенного с мрамором архитектурных деталей.
Орлов увлечен сопряжениями взаимных исключений. Так, выстроив затейливую конструкцию, он может заставить ее жить вместе со знаком, скажем, со знаком военных или профессиональных отличий. Или - соединить самодостаточную, изощренно сбалансированную рельефную структуру с ярким, рвущимся на зрителя необузданным ревом эмалей, чтобы привести богатство классического объема, сформированного изгибами, толщинами, выносами, рельефом к стиранию, разрушению этого объема пленочной поверхностью цвета. Или - испытать прочность своего мира ползучей агрессивностью хохломского узора.
В результате то, что не должно, да и не может сосуществовать вместе вступает в сложные взаимодействия, подчиненные организации оппозиций, соединению и воссоединению несоединимого. Безусловно, подобное изобилие многослойных противостояний - еще одно состояние героического мифа. Из этого следует: конституирующий принцип контрадикторности, несомненно, есть нечто большее, нежели только принцип формообразования; он - основа всего художественного проекта Орлова. Ведь объединение разнородного, противоположного, противопоставленного - это и есть империя: самодержавная власть героической самости в образе единства и одновременно сложной целостности.
VII.3. Архитектоника и живопись
Героическое торжество самости вознесено над контроверзами любых противоречий. Мифология авангардного и поставангардного искусства, следуя за ницшеанской риторикой «архитектуры великого стиля», неустанно пленялась внушенным той же риторикой соответствием между фатальной волей к могуществу и сияющей победой над тяжестью.
Одним из символов такой победы стала идея конструкции, многообразно переосмысленная искусством ХХ века. В скульптуре та же эстетическая установка спровоцировала отрицание монолита, объема, массы как обязательной изобразительной формы. Их сменила «пространственная глубина» - источник манифестаций статических и динамических сил, созидающих для себя новые образы художественного тела. Скульптурный объем тем самым преобразовался в конструкцию, в пространственное (по)строение, объект, структуру.
В ранних работах Орлова этот узловой сюжет модернистского искусства представлен самыми разными моделями. Так, в его скорлупах масса отменена предельно облегченными фрагментами поверхности, застывшей дольками в зияющей пустоте - парадоксальный аналог антискульптурным конструкциям Наума Габо. В сферических композициях отрицание объема пространством еще энергичнее: под натиском (мета)физических мотиваций объемы скульптурных персонажей как будто сами освобождаются от собственной тяжести. В ассамбляжах сопротивление материалов укрощено изощренной политикой противовесов, натяжений, ракурсов, изломов, ритмов.
Та же (архи)тектоническая (а не формально-пластическая) основа соединения сохраняется во всех последующих работах Орлова, начиная с середины 70-х годов. Внимательный глаз легко отметит устойчивую связь между принципом «осознанного согласования» (Витрувий I, 2, § 4) и структурностью образа. Какой бы ни была эта структура - геральдической, тотемной, парсунной - она всякий раз отсылает к строительной, тектонической «архитектурной» основе. Именно здесь и развертывается изобретательная игра скульптора с числом, симметрией, золотым сечением. Так, в тотемах и парадных бюстах (например, «Бюст в триумфальном стиле», 1988 ) погрудная часть нередко напоминает собой антаблемент, со сложным профилем карниза. Соответственно, образ фасада в тех же бюстах может быть подчинен осевой симметрии, нередко нарушенной взрывной диагональю и остроумными асимметричными сдвигами. Но может быть обусловлен и сложными ракурсами, наклонами, углами: в парадных портретах использованы узлы различных элементов, имеющих разные оси. В «Букетах» - архитектура втянута в утонченную аранжировку россыпи визуальных элементов, основанных на четких соотношениях между точными величинами.
Архитектуру нельзя добавить извне, - настаивал Ле Корбюзье. - Она заложена в самом качестве порядка, в котором организованы элементы здания, соединенные такой же живой связью, что слова в речи. Ясная осознанность такого порядка, пронизывающая в работах Орлова самые сложные лабиринты сцеплений - одновременно и архитектура и архитектурная борьба с тяжестью, ставшие скульптурой. И здесь, как в речи, значимым оказывается не только то, о чем говорится, но и самый способ построения: то «как это сделано». А поскольку сделанность раскрывается посредством обработки - приема, - то и прием выступает в конструктивном значении, то есть используется как «конструктивный фактор».
Одним из наиважнейших приемов, поддерживающих архитектурную основу скульптуры у Орлова, остается формообразующий принцип живописи. Живописи, взятой прежде всего в том значении, которое ей приписывал Микеланджело. Напомним: в письме к Бенедетто Варки, разъясняя различия двух разных подходов к скульптуре, он предложил предельно точную формулу: «Под скульптурой я подразумеваю ту, которая осуществляется путем удаления [частей материала], та же, которая идет путем добавления, схожа с живописью». И тут же добавил: «Я полагаю, что живопись тогда может считаться наилучшей, когда она более всего приближается к рельефу».
Скульптуры Орлова соответствуют этим характеристикам в полной мере. Они и строятся «путем добавления», «более всего приближаясь к рельефу». Притом «живописный принцип» доводится до крайних пределов: дуга обзора сужается до точки созерцания картины, скульптурный объем уплощается до фронтальных стендов, цвет упраздняет автономию пластики и, заявляя себя как самодостаточную величину, следует за собственными линиями то геометрических прямых, то - безошибочных, неколебимых кривых.
Все это имеет мало общего с раскрашенной скульптурой, которой увлекались современники Орлова. Дерево привлекает его не текстурами, не «интимностью», но технологическими возможностями, легкостью, доступностью. Дерево не имеет ограничений камня или зависимой от каркаса глины; оно позволяет вводить другие материалы, осуществлять любое соединение, любой монтаж. При этом деревянная раскрашенная скульптура обладает мощной местной традицией: тут и пермская скульптура XV в., и резные иконостасы, и декоративные статуи XVIII столетия, и корабельная скульптура, обособленная в ХIХ веке в специальную мастерскую при Морском ведомстве.
Впрочем, по отношению к работам Орлова правильнее говорить не о раскрашенной, но о цветной скульптуре. Ведь цвет здесь не используется в иллюзорных или декоративных целях. Его назначение, его смысловая функция - оспорить, перекричать, спровоцировать пластику. Поэтому, вместо вживления цвета в фактуру рельефа - отрицание, дезавуирование сложной выпуклой поверхности цветовым покрытием: нарочитая несвязуемость двух способов высказывания. Цвет не подчеркивает форму, но живет своей, знаковой, откровенно ироничной жизнью на ее теле. Его эстетическое назначение - соблазнить красотой, великолепием, торжеством, сиянием, блеском. Этот соблазн может стать роковым, репрессивным, как в случае превращения слоя цвета в орнамент, однако никогда не окончательным. Последнее слово у Орлова принадлежит образу вещи.
VIII. ИМПЕРИЯ ЗНАКОВ?
Следуя за феноменологией, эстетика экзистенциализма исключительное место отводила созерцанию, усмотрению, узрению вещей. При этом вещь - будь то скульптуры Джакометти или Мура, либо живопись эпохи господства абстрактного искусства - утверждала свое существование между бытием и ничто сходством с поэзией, музыкой. Имелось ввиду: знак указывает на значение, тогда как вещи - живопись, скульптура, поэзия, музыка - говорят сами от себя, собственным языком присутствия. Ту же дихотомию Сартр перенес в литературу: «Необходимо видеть различия: проза - это империя знаков, а вот поэзия на стороне живописи, скульптуры, музыки».
Однако двумя десятилетиями позже - в эпоху поп-арта, кибернетики, возрождения семиотики и структурализма - знак решительно оттеснил и вещи, и созерцания. Его триумф утвердил новый взгляд и новую оптику, привлек внимание к миру коммуникаций, социокультурных взаимосвязей, ввел в поле аргументации и художественных практик апологию игры и моды. Поэтика знака отменила и сартровское соотношение между поэзией и прозой. Книга Ролана Барта «Империя знаков» (1970) - по ту сторону прежних различий.
VIII.1. Форма вещи: тектоника и конструкция
Концептуальная морфология Бориса Орлова - по типу эстетической рефлексии, по своей стилистике и поэтике - искусство постпоп-арта. Однако главная линия этого «пост» - не аутичная концептуалистская установка на замкнутую в себе эзотерическую игру симуляционных знаков, но выстраивание внятной, предельно артикулированной системы визуальных образов, обязанных поэтике контрадикторности.
Скульптура Орлова - разом и вещь, и знак. Поэтому само утверждение того и другого предполагает не только особую отстройку глаза, но также свои способы истолкований. Понятно, в данном случае знак и знаковость предполагают нечто иное, нежели то, что подразумевает скульптура мемориальная или агитационная. Знаки в художественном универсуме Орлова не «представляют» явлений готового мира, но формируют свой собственный; формируют, опять-таки, на основе котрадиктарности: в качестве знака скульптура представляет отсутствующее, в качестве вещи, напротив, утверждает наличие, интенсивность присутствия скульптурной формы здесь и сейчас.
В результате вещи и знаки неразлучны, притом, что вещи своезаконны: в отличие от знака они не отсылают к чему-то иному. Хотя, как явствует из собственных пояснений художника, - все его вещи, само его творчество суть восполняющие морфологические реакции на обнаруженное им отсутствие, нехватку, зияние: отсутствие «имперского искусства», отсутствие «форм монументального станковизма», отсутствие фигуры «имперского художника», отсутствие «имперского стиля» и т.д.
Соответственно, началом восполнения выступает форма, объединяющая в себе вещь и знак. Здесь вряд ли подойдет слово «пластика». (И не только из-за «технологических» коннотаций: со времен Плиния пластикой обычно именовалась скульптура из бронзы, а ваянием - скульптура из мрамора). Правильнее говорить о скульптурном формообразовании или - если иметь ввиду инструментарий толкований - о тектонике и конструкции.
Содержательно термин «тектоника» (от греч.τέκτων, тéктон - устроитель, зачинщик, творец) предполагает творчески разработанную и художественно осмысленную организацию отдельных частей в их соподчиненности целому. То есть: имеется ввиду не только смыслополагающее искусство «строить, выстраивать» (sturo), но также зависимое от замысленного в уме «строение» (structura). Основа такого строения - конструкция (constructio): «составление, собирание, согласование, построение, синтаксическая связь» (если речь идет о грамматическом предложении). Последнее значение позволяет придать обоим терминам дополнительные инструментальные значения семиотики: тектонике может принадлежать доминанта смысла (семантика), тогда как конструкции - доминанта связности (синтактика).
В такой перспективе форма как соотношение знака и вещи позволяет видеть в работах Бориса Орлова не только общую для разных уровней семиотическую основу, но также различать игру многообразных - в том числе противостоящих друг другу - кодов.
Тектонические формы всех вещей Орлова обладают состоянием предельной ясности. Никакой двусмысленности, подмигивающей недосказанности, оставляющей зрителя на распутье. Каждая вещь наделена качествами точно сформулированной мысли. В конструкции - отчетливые деления на соразмерные отрезки, выверенные отношения глубины, чеканно организованный ритм по разному напряженных вертикалей, горизонталей, диагоналей, цветовых соотношений, тембров, обертонов.
Разумеется, при всей проработанности формы, будь то ничем неприкрытое ее нутро или утонченность нюансировки, Орлов вовсе не формалист модернистского толка. Его принцип формы, сами формы, качество их игры - продукт идеи, концепции. Концепции, согласно которой скульптура манифестирует искусство, утверждающее парадоксальное единство онтологии отсутствия и наличия одновременно.
VIII.2. Поэтика коннотаций
Хотя форма как конструктивное выражение образа тяготеет в скульптурах Орлова к архитектурной самонаглядности, знак, между тем, вовсе не сводится к статусу «декора». Он может формировать образ вещи, обретать материальную предметность и визуально доминировать. Пример такой доминанты - «Хоккеисты» (1982) «Противостояние» (1990), «Самый главный» (1990), представляющие собой знаково-эмблематическую структуру. Знак здесь преобразуется в полноту самодостаточной формы, демонстрируя тождество стиля (конструкции-синтактики) и смысла (тектоники-семантики).
Однако и при всей морфологической представленности, при всей архитектонической самонаглядности знака каждая скульптура или инсталляция предлагают зрителю предельно широкое поле знаковых взаимосвязей.
Самый наглядный их аспект - поэтика ассамбляжа: разноголосый хор аксессуаров, эмблематических деталей, текстовых фрагментов. Если прежние онтологии реальности считали, что всякая вещь (res, realis) таит в себе сокрытое, сокровенное слово, имманентный вещам логос, то реалии универсума Орлова не скрывают своих слов. Притом звучат они не монологично, а в одновременности шума бесчисленно-много-раз сказанного и бесчисленно-много-раз слышанного. Это даже не цитаты, но их след: дробные кусочки военных и патриотических песен. Крайняя фрагментарность превращает их в сигналы. Налицо лишь пафос: «всегда», «мы правы», «стоять»… - осколки когда-то общенародных хоровых строк («Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы», «Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед» и т.д.). Сама же нарезка текстов, представленная плакатным белым рубленым шрифтом на красном фоне, либо красным на белом, - еще один обертон всё того же хора. Таким же набором знаков-сигналов оснащены инсталляции и отдельные скульптуры, как например, «Триумфальный букет» (1988), составленный из военных колодок, спортивных эмблем, колосьев, лент, вымпелов, фрагментов патриотических песен; или - «Групповой портрет с лентами» (1987): красно-белый куст имен «прославленных и прославляемых» художников.
Введенный таким способом речевой код включает в себя и код риторический. Таков, например, лексический повтор (lexical repetition): «Стоять», «стоять смирно» или «пусть будет», где фрагмент исходного текста предстает зрителю командой и одновременно заклинанием: магическим заговором, ритуальным повторением одной и той же словоформы.
Существенно: усложнение системы кодов, их взаимодополняющие и взаимо-резонантные связи чаще всего опираются не на метафорическую образность, характерную для «поэтического» искусства 60-х годов, но на метонимию и синекдоху.
При этом «обогащение значений» - даже если внимание фокусируется на отдельно взятой детали - всякий раз достигается через референцию к целому; в искусстве Орлова любая деталь представляет целое, независимо от того, всегда ли ясны границы этой целостности зрителю. Само же целое подразумевает не только концепцию «имперского искусства», не только контексты советской культуры, социальных мифов, методологических позиций при их исследовании, но также коммуникативное поле, постоянно преобразующее знаки и смыслы.
Это означает: знаки, используемые Орловым всегда существуют в конфигурациях, а потому значение их следует искать не только в самом знаке, но также в противопоставленности другим знакам, в их взаимодействии друг с другом. Таким образом, не значение, взятое само по себе, но конфигурации - взаимосвязи символического порядка с формой, тектоникой, конструкцией, коммуникативными полями - образуют постоянно расширяющуюся сферу смыслов.
В соответствии с этими смыслами и выстраиваются ряды дополнительных значений, коннотаций (примечательно: латинское natatio, к которому восходит connatatio, подразумевает не только «обозначение», но также «рассмотрение», «наблюдение»). А поскольку в отличие от метафоры, метонимия с трудом поддается интерпретации, основой ее актуализации выступают коннотативные сети, включающие в себя - кроме отсылок к целому - также психоаналитические «замещения» и «субституты».
Разумеется, любая коннотация, говоря словами Ролана Барта, «представляет собою связь, соотнесенность, анафору, метку, способную отсылать к иным - предшествующим, последующим или вовсе ей внеположным - контекстам». Однако, работая с разными контекстами, Орлов постоянно устремлен к некоему единому авторскому «тексту», образующему связную систему дискурса.
И хотя эта дискурсивная система не ограничивает никаких ассоциаций, однако, как и подобает дискурсу, предполагает верность правилам игры. Так, если тотемы у Орлова не есть в буквальном смысле «объекты религиозного почитания», это вовсе не означает, что они должны быть уподоблены шаржам или сатирам на бюрократию, либо - иллюстрациям к Салтыкову-Щедрину. Тотемы Орлова всецело принадлежат искусству и дискурсивной системе Орлова, а уже вслед за этим - всему остальному: истории искусства, культуре, выставочным проектам, интерпретациям и т.д. - вплоть до литературных или этнологических параллелей.
VIII.3. Поэтика пародирования?
Хотя художественная система Орлова выстроена по собственной логике всецело личностного искусства, она не исключает логики уже-сделанного, уже-виденного. И в этом - ее точка схода с общей методологией соц-арта.
Однако отношение к уже-сделанному у Орлова иное, нежели, скажем, у Комара и Меламида, основателей соц-арта. Уже-виденное приходит в его искусство не через апроприацию, не через пастиш, имитацию или эклектическое суммирование типического, но через фигуру отсутствия. Некое «уже-сделанное», «архетипическое» - образец, предшествующий искусству «имперского художника» - не увидены где-то, но изобретены как увиденное.
Здесь - существенная корректива к теме пародии, с которой обычно связывается соц-арт.
Всякая пародия подразумевает «чужое слово» (М. Бахтин): оригинал или его образ, с подражания, мимезиса которому начинается пародийное преобразование исходного образца. Это преобразование может касаться формы, содержания, предмета, стиля, особенностей языка, порождать (либо не порождать) комические реакции, провоцировать шутку, смех, сарказм, иронию, - однако при всем том оставаться зависимым от оригинала подражанием, эксплуатирующим эффекты несовпадения подлинника и пародии.
Примечательно: в искусстве Орлова никакого подражания образцам и основанного на нем пародирования мы не находим. Мы видим использование различных уже-известных нам элементов (орденские планки, спортивные эмблемы, элементы архитектурных украшений, супрематические образы, цвет как маркер социальных статусов и прочие «аксессуары»), но не видим образчика, по отношению к которому осуществляются акты мимезиса-пародирования. То есть, мы обнаруживаем интертекстуальность, предшественников, сходства, переклички, но не находим никакого «первотекста». Вместо архетекста - собственный голос травести, преобразованный в нашем восприятии последовательностью переодеваний. Всякий раз прямое исходное значение деконструировано дополнительными, сопутствующими. Так, например, проект выставки «Воинство земное и воинство небесное» хотя и отсылает к известной иконе, однако никаких прямых соответствий с ней не предполагает. И это понятно: в действительности речь идет не об иконе, но о системе кодов, сопутствующих нашему знанию иконы.
Собственно, по отношению к этим кодам и осуществляется пародирование Орлова. Очевидно: наиважнейшие из этих кодов - коды власти (imperium), представленные знаками власти. Для Орлова они в ряду других знаков: знаков могущества и власти древнего Рима и Византии, наполеоновской, австро-венгерской, российской и советской империй. Подобная актуализация прошлого крайне современна: ведь сегодня (вспомним Бодрийяра) власть - «симулякр, и потому она превращается в знаки и измышляет себя, исходя из знаков (вот почему пародия, обращение знаков или их ложное раздувание может затронуть ее глубже, чем любое отношение сил»).
Сходным образом Орлов думал и тремя десятилетиями раньше. Реализацией этой мысли послужил героический миф судьбы художника
Миф, как показала скульптурная инсталляция «Ретроспектива», способный - в полном соответствии с эстетическим принципом и художественным методом контрадикторности - объединять драматическое с ироническим самопародированием.
VIII.4. Оглядка
Пройденный путь побуждает к подведению итогов, к заключительным выводам, обобщающим формулам. Воздержимся от них: готовые формулы держатся узостью подразумеваемых содержаний.
Напротив, художественный универсум Орлова изначально принадлежал расширяющейся вселенной. Он не только отсылает к известным контекстам, он формирует новые. Здесь каждая работа заряжена языковым разноголосьем: за просторечьем образных гипербол проступает классическая латынь чеканного синтаксиса, за пылко-торжественным громом призывов - усмешливый слог иронической рефлексии, за велеречивой изощренностью декора - несокрушимая логика тектонических конструкций. И все это - в напряженном, непрекращающемся диалоге с экзистенциальной метафизикой, с опытами авангарда и послевоенного искусства, с их переосмыслениями постмодернистскими стратегиями деконструкции.
Можно ли в такой полифонии обойтись без проблематизации самого существа искусства скульптуры - а тем самым - проблематичности «личного высказывания»? Вопрос - лишенный смысла при чисто знаковом подходе к пластическим искусствам; в мире знаков вполне хватает простейшей гибридизации: достаточно лишь знак из одного контекста соединить со знаком другого, чтобы получить новый объект в стиле «соц-арта» или любого другого, придуманного куратором «направления». В конечном счете все сводится к «жестам», «стратегиям», «мерцаниям». У Орлова иначе. Его концептуальная морфология, его игры со знаками, основанные на соединении несоединимого, никогда не упраздняют скульптуры как самоценной содержательной величины. Напротив, всякий раз усиливают ее провоцирующими самоограничениями.
Несомненно, эту сюжетную линию творчества Орлова распознать и оценить гораздо труднее, нежели «знаковую». Скульптура - наиболее трудный для художественного восприятия вид искусства. Открываясь пытливой работе изощренного глаза, она непроницаема для сканирующего «считывания». Однако для опыта художественного, для опыта эстетического, продуцирующего ту или иную систему категорий, готовность к смене оптики чрезвычайно плодотворна. Не случайно, в философии Шеллинга скульптура трактуется как «вершина изобразительного искусства, которая вновь возвращает его к источнику всякого искусства и всех идей». В такой перспективе углубленное художественное созерцание, так же как эстетическое размышление
над взаимосвязями «истока» и «вершины», открывают искусство как пространство иных, никем, кроме самого зрителя, неосвоенных значений и смыслов.
Для этого скульптор Орлов сделал всё, от него зависящее. Наше призвание - открытое им пространство творчески обживать.
2013