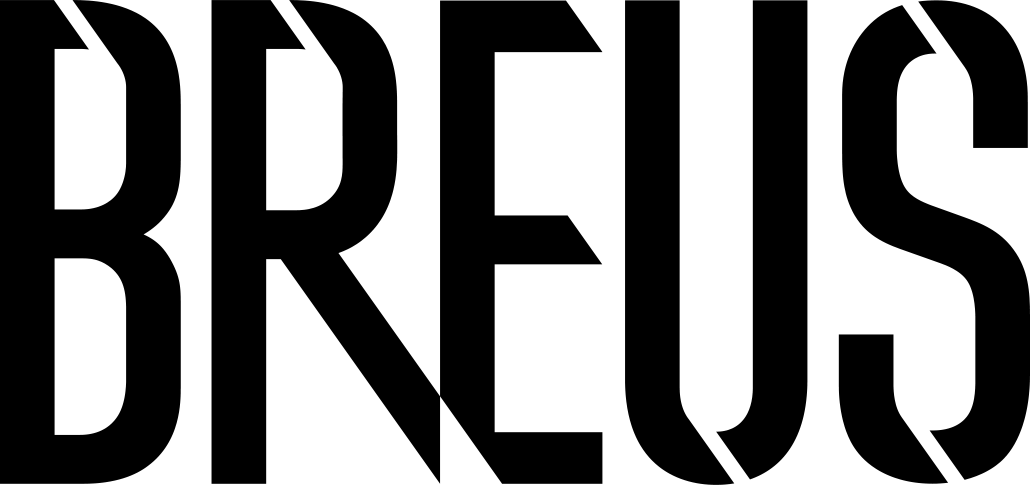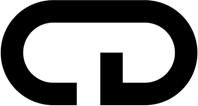О Гросицком.
Гросицкий — это необычная, загадочная фигура в отечественном изобразительном искусстве второй половины ХХ века. Сколько раз его пытались встроить в какой-либо «-изм», и ни разу не получалось вразумительно истолковать эти попытки.
Наконец, в 2007 году, по случаю ретроспекции в ГТГ разобраться во всех сложностях, казалось бы, на первый взгляд такого простого и ясного феномена взялся известный философ и искусствовед Евгений Барабанов.
Когда я недавно, по случаю открытия новой выставки Андрея Гросицкого в Музее современного искусства, еще раз прочел статью Барабанова, то подумал, что и добавлять-то к написанному нечего, настолько многослойное и убедительное исследование провел автор. Я даже и не посмею вторгаться в подобное поле исследования, у меня для этого нет нужного инструментария. Я постараюсь быть только зрителем, свидетелем, соучастником процесса, и только.
Прежде всего, нужно припомнить, что же это было за время, когда мы вступили тогда, кто чуть раньше, кто чуть позже, в поле действия. Это был конец 60-х. Что за идеи витали тогда в воздухе? Прежде всего, это были идеи личной свободы. То было время, когда стремительно разрушалась социальная и культурная коммуналка, когда начал стремительно формироваться культ индивидуальной свободы. В это время у нас были востребованы идеи Зигмунда Фрейда, Фридриха Ницше и более всего – идеи экзистенциализма, особенно русского (Бердяев, Шестов), идеи радикального персонализма. Впервые, как никогда, встала проблема языка.
Можно много говорить о феноменальном мастерстве живописца Гросицкого, и уже много написано, мне же в данном случае хочется поговорить о мотивациях в его творчестве.
Мотивация, на мой взгляд, всегда первична в творчестве художника. Творческий метод всегда следует за мотивацией. И то, и другое сугубо индивидуально и чем удачнее соединение первого и второго, тем значительней результат.
Итак, мотивация.
Уже в самых ранних работах художника сразу бросается в глаза в интровертность его взгляда. Что есть Я? Собственно говоря, это первый вопрос осознающей себя личности. Вопрос молодости. Молодой В. Янкилевский уже в 1962 году вводит в свой лексикон слово «экзистенциализм», впервые возникает дихотомия: «Я и Они», «Я и Не Я». Интересно, что у многих художников рубежа 60-70-х годов появляется тема манекенов или манекеноподобия. Для художника манекен это не просто часть инструментария в мастерской художника, а безличный объект, как антитеза личности. Его нагота предназначена для того, чтобы принять все, что угодно, согласно чужой воле.
Гросицкий первый ухватился за эту тему. Манекен у Гросицкого лишен жеста, он статичен, он анонимен. В картине «Семья» 1971 года эти безличные персонажи выглядят невероятно угрожающе, как рукотворная безжизненность. Эта тема возникает у Гросицкого ненадолго, но с нее начинается самая главная тема, тема всей творческой жизни художника Гросицкого – это тема ЖИЗНИ, во всей траектории личной жизни, его собственной жизни.
Художник сознательно ограничил круг своего внимания. Это жизнь вещей. И только на выставке-ретроспекции становится очевидным то, что перед нами дневник художника, путь жизни, автопортрет.
Что касается творческого метода, то Гросицкий выбирает прием метафоры, иносказания.
В повседневной жизни Андрей производил впечатление чрезвычайно скромного человека, даже слегка застенчивого, а в своих арт-объектах он является невероятно энергичной, наполненной мощной силой персоной. Я сознательно избегаю использовать в данном случае слово «картина». Гросицкий не писал картин, его персонажи не умещаются в рамах, а его объекты в привычных терминах. Его приемы всегда больше похожи на приемы иконописания. Его персонажи, как в обратной перспективе, всегда вываливаются вперед. Яркие, простые краски, как правило, только на фонах , ЖИЗНЬ, как всегда, густо замешена и выталкивается вперед.
Живопись Гросицкого это не просто фактурная живопись, а сознательная многослойность, которая живет во времени, как ржавчина на железе, где следы старения все равно следы жизни, а не умирания. Предметы новые, потом потертые, потом деформированные, брошенные и ржавые – все равно это следы жизни со всем, сопутствующим им, драматизмом.
Когда Андрей только начинал свой проект, он и не думал о том, в каких формах он отразит свою зрелость и старость. Все произошло само собой.
Когда я с ним познакомился, это было самое начало 70-х, я увидел его, позднее знаменитый, электрический счетчик, сияющий своей новизной, а рядом сияло эмалированное ведро, по которому хотелось постучать чем-то твердым, чтобы зазвенело. Конечно, мне тогда показалось, что это реакция на поп-арт, на Олденбурга. Может быть и ему так тогда казалось. Но чем дальше, тем больше я стал угадывать во всем его творчестве экзистенциалистскую мотивацию. Да, как бы говорит он, жизнь – это движение и непрерывное изменение и Я и есть это движение и изменение. Здесь нет субъекта и объекта в оппозиционном стоянии, а субъект-объект как экзистенциальное единство. Вспомним его самые яркие высказывания в зените зрелости – тюбик или тюбики с выдавленной краской. Краска горит аж дух захватывает и в тюбике ее еще много. Жизнь ликует.
Тюбик с выдавливаемой или выдавленной краской становится рефреном во всем его зрелом и позднем творчестве. В последние годы тюбик уже использован, он или смят или разорван, иногда даже явлен в виде распятия («Тюбик растерзанный» 2006 год), но все равно жив своей мощной фактурной жизнью. Никакого трагизма. Только один раз художник отправляет старый, драный жизнью предмет в потусторонний мир, в отсутствие, и то, делает это с иронией («Диалог» 2005 год). И что бы он ни изображал, будь то старые железяки, обрезки, механизмы и прочие отходы активной деятельности, везде звучит жизнь, могучая, не умещающаяся ни в какие рамки. И всюду сам художник, живой и всемогущий.
Если уж так повелось, пытаться прописать Гросицкого по какому-то месту жительства в истории нашего искусства, то и я не удержусь от этого греха. Мне кажется, что он – ярко выраженный экзистенциалист, очень похожий по духу на такого же радикального персоналиста, не желающего ни с кем идти в ногу, это – Михаил Рогинский.
Язык Гросицкого метафоричен и исповедален. Он никогда не выносил свой голос за скобки текста, как это делали поп-артисты и соцреалисты. Его главная тема – это пограничная ситуация между вчера и завтра, между устойчивостью и разрушением, между страхом конца и мужеством противостояния.
Я бы поставил его в ряд таких художников-экзистенциалистов как Булатов, Васильев, Пивоваров, Касаткин, Кабаков. Все они его ровесники, все они очень разные, не объединенные рамками стиля, как и полагается радикальным представителям этого направления. Более всего мне интересно его сопоставить с Кабаковым, таким же мусорописцем. Только у Кабакова мусор – это сфера отчуждения и тотальной несвободы.
Объекты же Гросицкого – это свидетельства ЖИЗНИ после жизни.
Б. Орлов
19 февраля 2021