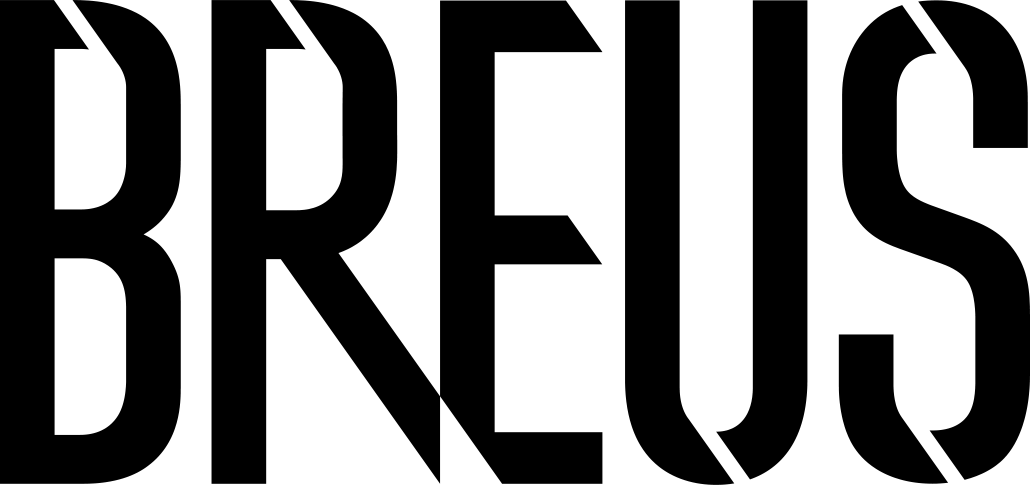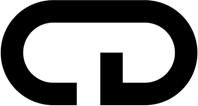АВS НЕВОIСА
Евгений Барабанов
В русском искусстве последнего полувека Борис Орлов занимает исключительное положение. Еще в советские времена его скульптуре удалось осуществить труднодостижимое — привлечь зрителя очной ставкой разведенных историей художественных систем, укорененных в традициях классицизма, модернизма и авангарда. При этом — неутомимо избегая ловушек эклектических стилизаций — художник всякий раз демонстрирует редкое единство качеств: ясность оригинальных идей, предельную точность формы, пластическую изобретательность, мощную энергию воображения, интеллектуальную искушенность, веселое остроумие. Сегодня Орлова справедливо именуют «классиком современного отечественного искусства».
Но прежде чем стать классиком, долгое время скульптор воспринимался еретиком. Таким он был и для выставочных комиссий официального советского искусства, и для богемного дилетантизма андерграунда. С эстетикой советского официоза Орлов разошелся еще в годы обучения в Строгановском училище. Именно тогда, в шестидесятые, на свой страх и риск он взялся за осмысление осужденного господствующей идеологией проекта героического модернизма, представленного пластикой изъятых из советской культуры Осипа Цадкина и Хулио Гонсалеса, Альберто Джакометти и Луизы Невельсон, Генри Мура и Барбары Хепворт. В инновационных экспериментах каждого из них Орлов увидел не только разрывы с прошлым, но также связи с заветами Родена, Майоля, Лембрука, Адольфа Гильдебранда, наконец, с античной классикой и архаикой. Актуализация этих непроясненных современностью корневых связей с великим наcледием, по убеждению Орлова, по сей день остается живым ресурсом самообновления пластических искусств: даже если речь идет о совсем иных художественных системах.
Для богемно-артистических сект андерграундной культуры Орлов также оставался еретиком. Правда, по иным причинам. Прежде всего — в силу верности профессиональным требованиям ремесленного мастерства, обладание которым открывало ему уровни свободы, недоступные дилетантам. Строгановка научила скульптора делать все: чеканить медь, рубить дерево и камень, знать восковое литье, уметь изготавливать кусковые гипсовые формы и земляные формы для литья в бронзе. Для адептов черно-белой концептуалистской текстолатрии и любительского рукоделия — пластическое богатство художественного универсума Орлова представлялось опасным вызовом: образ современного искусства, сформированный взыскательной требовательностью и беспощадностью художника к собственному творчеству, дисциплина строгого отбора и самоограничений — все это разрывало круговую поруку местных конвенций. Естественно, артистическое дионисийство, не забыв истории с флейтой Марсия, к возможным состязаниям с искусством аполлоническим относилось крайне настороженно.
«Аполлоническое начало», на которое любит ссылаться сам художник, вполне справедливо отождествляется им с началом героическим. Именно эту героическую линию и отстаивает Борис Орлов на сцене современного российского искусства. Речь идет не только о сюжетах и фабулах, о специфике выразительных средств, о драматургии или художественных предпочтениях, но также о твердости собственной независимой позиции в искусстве. Этой позиции художник верен по сей день.
1. Картографические подсказки
Крайне схематично творчество Бориса Орлова можно разделить на три больших периода, различающихся и своей художественной проблематикой, и методом, и тематикой. Первый период — метафизический, продолжавшийся с середины 1960-х годов до начала 1970-х; за ним — период смены ориентиров: формирование новых задач, новых образов, новых приемов, представляющих проект большого героического стиля; наконец, третий, с начала 90-х и по сей день — период многоплановой художественной рефлексии, тематизирующей судьбу собственного художественного мифа в контексте социо-культурных перемен, сопряженных с крушением советской империи: его можно назвать периодом музеизации. Разумеется, предложенное деление достаточно условно и многое упрощает: в художественном наследии Орлова явственно различимы ряды устойчивых мотивов, органическое развитие жанровых циклов, структурная взаимосвязь излюбленных элементов поэтики, логика переходов к новым задачам. Именно потому правильнее говорить о смене доминант, нежели о разрывах. С такой оговоркой, не отменяющей преемства и целостности, деление на периоды дает возможность прояснить динамику художественных трансформаций и отметить особенности каждой новой фазы.
Специфика периода метафизики может быть описана как последовательная работа над скульптурой, являющей собой самозаконную, самодостаточную и самоценную форму. Обретение такой формы, которая выступает коррелятом творческого «я» художника, идет у Орлова через движение вверх, в духовные, трансцендентные сферы: в актах обнаружения универсальных первоначал, общих первопринципов, представленных аутентичностью личного высказывания. Содержание же личных высказываний суть поэзия и правда внутреннего мира художника: опыт его видения, опыт овладения исконными законами формообразования, соотнесенными с универсальными законами глубинных сущностей, будь то сущность пространства, времени, свободы или конечности существования. Теоретической опорой для решения этих герметических задач — скажем, становления и борьбы формы с порождающим ее пространством, представленных диалектикой сил разрыва и сжатия, изъятиями формы из тела массы, столкновениями пространства и монолитного объема, полаганием неожиданных перспективных точек зрения — выступали экзистенциальная философия свободы, экзистенциальная метафизика и персонализм. Этой философией питались порядок и неожиданность, интеллект и сила воображения, жизнь созерцательная и жизнь деятельная. Итогом метафизического периода стали многочисленные скульптуры из дерева и терракоты: руинированные головы римских императоров, стянутые свинцовыми скрепами, сферические фигурные композиции, изобретательные ассамбляжи.
Второй период — период большого героического стиля — обусловлен сменой ориентиров, суть которой лучше всего обозначить любимым словом художника — метапозиция. Слово это подразумевает двойную перспективу.
Одна — панорамная — отсылает к смене парадигм в московском искусстве начала семидесятых, предопределенной ростом художественной рефлексии на американский поп-арт и концептуализм. Главное здесь — внимание к ресурсам постдадаистических тенденций, пересматривавших границы между «высокой» и «низкой» культурами. Московские художники с интересом всматриваются в прежде отчужденный, табуированный подпольем мир советской идеологической продукции: в эстетически амбивалентные образы наглядной агитации, в стилистику лозунгов и речевых штампов, в мифы повседневности. Прежние ресурсы самоизоляции, романтического артистизма, экзистенциальной метафизики кажутся исчерпанными, тупиковыми. На смену внутренней эмиграции приходят стратегии поворота к действующим практикам культуры: стратегии эстетизации советского социума, стратегии иронических техник манипуляций знаками и символами утопического энтузиазма. Подпольное искусство проверяет собственные границы, художники — амбиции авангарда на роль демиурга. Переоценка меняет проблематику: на смену пафосу «последних истин», рожденных в замкнутых пространствах героического экзистенциализма, приходит интерес к истинам предпоследним, стирающим разрывы между эстетически привилегированным и — профанным, «антиэстетическим».
Стадиально этот выход из гетто высокого модернизма в мир культурного многоязычия и релятивизма, начало работы с готовыми знаковыми системами почти совпадает с новыми — постмодерными — тенденциями в западной архитектуре. Вспомним книгу Роберта Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре» [1966], его призыв отказаться от пуританского языка модернизма во имя богатства и многозначности современного опыта: «Я предпочитаю “и то и другое”, а не “либо то, либо другое”, и черное и белое, а иногда серое, а не белое или черное». И хотя русское искусство, отгороженное от интернациональных художественных процессов информационной блокадой, не могло полноправно включиться в общие дискуссии о судьбах «проекта модерна», тем не менее, московским художникам все же удалось сформировать собственные художественные и дискурсные практики.
В этом процессе Орлов — среди первооткрывателей, формирующих и сам эстетический поворот, и новые векторы художественно-интеллектуального движения.
Другая перспектива, заданная словом «метапозиция», — личная художественная стратегия Бориса Орлова: переход от герметизма экзистенциально-метафизических «сущностей» к позиции «вынесение себя за скобки». Прежде всего за скобки исповедальной субъективности в пользу богатства еще неэстетизированных, осужденных модернистским пуризмом социокультурных феноменов повседневности. Один из первых шагов — тематизация инструментального отношения советского академизма к традиции: доктринальное требование к современным художникам «брать все лучшее из прошлого». Орлов принимает этот тезис. Но вместо стилизованных подражаний канону решительно раздвигает круг образцов, дерзко смешивая «высокое» с «низким». Теперь его занимает проблема единства вещи и знака. И первое ее решение — восполнение метафизической «вертикали» героическим освоением «горизонтальных» измерений. Начинается разработка «геральдического» цикла [1974-1981], в котором, по словам художника, «довлели иконное видение Малевича и поп-артный прорыв в низовую плоскость социальной геральдики».
Работа с социокультурным порядком знаков открыла Орлову сложную квазирелигиозную структуру официальной советской культуры — ее тотемическую и магическую природу, где заклинания лозунгов подменяли реальность, а знаки и символы обладали большей реальностью, чем сама реальность. Диагноз художника: мистериями торжества над действительностью тоталитарная система сознательно стремилась архаизировать и инфантилизировать всю социальную сферу. Оставалось вычленить архетип и протоструктуру, лежащую в основе самой системы. Результатом такой аналитики Орлова стала анфилада репрезентативных образов утопии власти, могущества и торжества: ряды, ведущие от тотемного изображения к иконе, далее — к имперскому парадному портрету, затем — к Малевичу как «последнему иконописцу». При этом актуализация архаики и авангарда в контексте эстетизации знаков советской империи придавала художественному «тексту» Орлова уникальную новизну, легко выводя художника за рамки модернистского проекта.
В этот период формируются жанровые циклы: «иконостасы», «парадные портреты», «тотемы», «парсуны», «букеты в триумфальном стиле». По мысли художника, все это жанровое разнообразие должно представлять репрезентативное искусство империи, ее большой стиль. И действительно: в последней манифестации имперского пафоса — инсталляции «Пламенеющий стиль империи» (1990] — большой стиль триумфирует сиянием соблазна ослепительной мощи и торжества.
Выражение «большой стиль» в отношении художественного проекта Орлова содержит нескрываемый иронический подтекст. Прежде всего он отсылает к официозу советского монументального искусства, идеологическую и художественную ущербность которого самовольно восполнил своими произведениями художник-еретик. Тайному вожделению замаскированных имперских амбиций Орлов предъявил явное: магические образы власти, наследующие триумфалистский пафос Рима, барокко, ампира, авангарда. И что важно: образы эти предъявлены без всяких претензий на демифологизацию. Напротив, просветительскому «срыванию всяческих масок» художник противопоставил ремифологизацию, эстетизирующую игру маски и аксессуара («Аллея героев», 1975).
Впрочем, «большой стиль» не только симулякр имперского искусства, у словосочетания есть и другой контекст, непосредственно обусловленный собственными — «аполлоническими» — художественными задачами скульптора. Суть этих задач перекликается с концептом «большого стиля» у Ницше: «усмирение жизненной полноты, властелином становится мера, в основе лежит покой сильной души, которая движется не торопясь и противится чрезмерному оживлению. Почитается и подчеркивается общее, закон, а исключение, наоборот, отводится на второй план» («Воля к власти», 819). Правда, «общее», «закон», «покой» и «мера» у Орлова в отличие от Ницше не ведут к «стиранию нюансов». Напротив, его внимание к точности тонких различий, к артикулированной проработанности поверхностей и деталей неотделимо от торжества архитектурной представленности покоя и меры, усиленных конструктивностью каждой скульптуры. Первые годы 1990-х, совпавшие с распадом советской империи, не только изменили общий контекст, диагностикой которого восполнялся художественный проект Орлова, но и побудили скульптора обратиться к мифу конца истории. В его инсталляции «Гибель богов» [1991], где доминируют сломанные крылья Икара и антропоморфные тотемы, являющие собой перевернутые нагрудные медали, имперская вертикаль сменяется сокрушительной диагональю.
На место мифа истории приходит мифология возвращения. В инсталляции «Парад астральных тел» [1993-1994] из огромного черного квадрата, напоминающего нам о радикальной художественной революции Малевича, вылетают анонимные черные фигуры, которые затем, по мере освобождения от черного, превращаются в старинные русские ордена-орлы, наделенные хвостами советских самолетов. «Все, что уходит “туда”, то есть в квадрат, оттуда же возвращается опять», — комментирует художник. Мифология возвращения, соответствующая логике героического эпоса, замыкает круг героев, объединяя героику большого стиля с героикой великой утопии авангарда. Завершающая фигура этого действа — парящий Ангел смерти.
Третий период охватывает последнее двадцатилетие: в начале 1990-х Орлов приступает к проекту «Музея империи», над которым продолжает работать по сей день.
Музеем заканчивается героический цикл империи. Художник повторно обращается к сюжетам прошлых циклов. В «разделах» его музея присутствует весь героический круг — от «археологических» голов римских императоров метафизического периода до «тотемов» и «парсун», восполненных фотографиями-автопортретами самого художника и фотоколлажами, на которых самолеты летят вместе с супрематическими эмблемами Малевича и вместе обращаются в геральдические образы.
Однако речь не идет о простом повторении. В заново воспроизведенных скульптурах мы видим мир после Истории, ставшиймифом об исчезнувшей цивилизации, еще одной Атлантиде. Над всем господствует патина черно-красного орнамента, травного хохломского узора: дурная бесконечность сведенных к модулю замкнутых повторений, умножающих себя воспроизведением одного и того же — знак глобального природного цикла, всепоглощающей стихии забвения, безвременья... Орнаментальный вирус представлен Орловым и как нечто инородное, предельно чуждое его собственному миру и одновременно как неотвратимая витальная сила, не имеющая онтологического статуса. Перед лицом крушения коллективного опыта скульптор вновь — с «аполлоническим» героизмом — отстаивает неуязвимость индивидуального экзистенциального опыта. Даже если речь идет о неизбежном — о сожженной памяти. В том же музее, в разделе «Открытия реставраторов» нас вновь встречают знакомые, хотя и почерневшие, словно древние иконы, тотемы, парадные бюсты с рублеными профилями... В отдельных местах они «вскрыты» расчисткой реставратора: знак преодоления потерянности, безвременной отсрочки.
2. Миф и карнавал
Сквозной сюжет работ Орлова — мифология империи: развертывание движения мифа от его архаических форм к триумфалистским образам ослепительного соблазна. Однако движение это представлено не в реконструкциях исторического развития, но циклами различных морфологических образований, сводящих в единое целое государственные амбиции с народным, низовым, по сути архаическим мифотворчеством.
В основе фабульных схем художника — будь то отдельные скульптуры либо скульптурные инсталляции — отсылка к сакральной традиции: к иконостасам, хоругвям, тотемам, парсунам, парадным бюстам, оружию. В конечном счете — отсылка к практикам образного мышления, способного создавать собственные классификации, на основе субстанциального тождества образа вещи и самой вещи. А такого рода сущностные тождества и есть миф, именно наличием субстанциальности отличающийся от поэтических тождеств литературных метафор.
Конечно, мифы Орлова — мифы всецело художественные. И чтобы представить магическую силу возможных тождеств, художник сдвигает акценты: его скульптуры — не иллюстрации к известным повествованиям, но сами источники нарративов. Орлова интересуют не историзации мифа, которыми озабочены стремящиеся к господству идеологии, не критика идеологии, но мифологическая природа идеологического сознания, мифологические содержания историзаций.
Отсюда художественные конструкции универсальных, «архетипических» мифообразов. Так, например, тотемы для Орлова не просто объекты, которым поклоняется род или племя, считая себя связанными с ними, скажем, общностью происхождения, но прежде всего манифестации мифогенного сознания, рождающего образы надиндивидуальной слитности единичного и множественного. И слитность эта представлена Орловым не только в качестве подразумеваемых феноменов каких-то архаичных формединения, но также принципом последующих различений.
В художественных конструкциях Орлова, побудивших его к развертыванию художественных стратегий субъективного присвоения традиций, можно обнаружить несколько измерений, позволяющих формироваться и ветвиться этим мифообразам.
Первое измерение опирается на эстетизацию дискурса психоанализа как дискурса совокупности теорий психологии и психопатологии, представляющих интерпретации проявлений бессознательного. Зигмунд Фрейд здесь мирно соседствует с Отто Ранком и Мелани Кляйн: они сведены интерпретациями эдипальной стадии и соотнесенной с нею областью Сверх-Я как инстанции, властвующей над Я. Границы здесь нарочито размыты: скрытое содержа-
ние— то, что предшествует содержанию явному — может раскрываться зрителем либо «Мифом о рождении героя» Ранка, либо — выявлением фантазматической образности «объединенного родителя» у Мелани Кляйн, скажем, через ее трактовку образа отца, наделенного грудью матери (именно таков Сталин с пышной женской грудью в серии «Сталинский ампир», 1995).
Второе измерение — эстетизация мифологии коллективного бессознательного. Миф здесь трактуется не в этнологическом смысле, но скорее в духе аналитической психологии Юнга и его школы. И так же как у Юнга, интерпретация мифического становится частью новых мифообразований, в силу которых основные персонажи мифа выступают универсальными архетипическими фигурами, а современный человек мыслится мифотворцем, продолжающим разыгрывать судьбоносные темы архаических драм. Таким образом, доминантной фигурой в искусстве Орлова оказывается Отец-Пантократор: Вседержитель и авторитарный Повелитель, наделенный беспредельной властью и силой. Он — носитель абсолютных императивов, организующих жизненное пространство (таков, например, приказ «Стоять смирно!» в инсталляции «Иконостас в имперском стиле», 1989).
К этой центральной фигуре родоначальника и хранителя ведут солнечные Сыновья-герои. Первоначально Орлов представил их иконостасом модификаций одной и той же маски Юлия Цезаря. На примере «Аллеи героев» можно видеть, что отличаются они между собой лишь аксессуарами, «тотемными знаками», эмблематической атрибутикой. Еще одна важная архетипическая фигура — мифологическая Мать: женская оборотная сторона Пантократора, представленная образами императриц. Их гротескно-большие груди не столько знак эротический, сколько идеологический: демонстрация плодородной мощи, соперничающей с фаллической властью Повелителя.
Третье измерение мифообразных конструкций Орлова — эстетика историософии: жизнь мифа в морфологически истолкованной истории. Здесь на сцену выходят родственные архетипам литературные матрицы морфологии культуры: рождение и торжество империи, ее эсхатологический закат, гибель богов, посмертная музеизация. Этими образно-категориальными конструкциями объединяются также судьбы Древнего Рима и Рима второго, основанного императором Константином, оживающие затем в мессианских утопиях Третьего Рима — столицы Московского царства и Российской империи. Так, имперский Рим, его власть, его притязания, его символические фигуры выступают разом то судьбоносными универсалиями, то платоническими эйдосами, то тем и другим одновременно в инсталляционном единстве «Воинства земного и воинства небесного» [2008].
Наконец, еще одно важное измерение: включение в пространство мифа самой фигуры художника большого стиля. Мифогенный заряд этой фигуры — в ее персонажности. Орлов вводит дистанцию между собственным личным высказыванием и делом художника, будто бы реализующего заказ государства на создание репрезентативных имперских образов большого стиля. Парадоксальность такой позиции — в легко угадываемой травестийности. Под ней подразумеваются не только сценические переодевания, смена ролей и голосов, закрепленные за французским словом travesyi, но также значения итальянского travestire: гротескно-комическое переиначивание классических поэтических произведений.
Такого рода двойная оптика позволяла скульптору, с одной стороны, внимательно исследовать утопические мифы, не становясь ни ангажированным художником, ни разоблачителем; с другой стороны — следуя идеям Михаила Бахтина о карнавальной культуре: сменить доминанту иерархической вертикали на историко-культурную горизонталь движения во времени. При этом, не пародируя какие-либо образцы «высокого искусства» тоталитарных государств, выстроить ряды собственных конструкций, собственных моделей, искусно вплетая в них фрагменты смеховой народной культуры и мобилизационных императивов лозунгов, следы машинерии идеологических штампов и схематизирующих стереотипов.
Наиболее характерное для всех этих конструкций и моделей — демонстрация привилегированной территории надиндивидуального: манифестации героического в образе доминирующего фасада, его торжества, его монументальности, величия, сияния и славы. И в «Тотемах», и в «Имперских портретах», и в «Парсунах» место таких манифестаций локализовано: это не лицо, не голова, даже не тело (все они слишком индивидуальны), но обобщенный пластический знак груди. В скульптурах Орлова именно груди принадлежит место героического, победного, праздничного, возвышенного, мощного, жертвенного, триумфалистского. Широко расправленная, готовая превратиться в знамя, доску почета, стену славы или музейную витрину, забронированная в униформу грудь воина-героя, защитника, спортсмена, труженика-передовика, вождя, — она становится носителем всех смыслов и всех знаков отличий. Украшенная наградами, эмблемами, орденскими колодками, лентами, она обретает космически-универсальный и одновременно всенародный характер Славы, Доблести и Геройства. Такой она остается и после того, как эманации ее торжествующей мощи начинают угасать в ползучей стихии безвременья. Ни орнамент, ни копоть забвения над ней не властны.
3. Под знаком Марса
По отношению к творчеству Орлова напоминание о Марсе предполагает не столько астрологические, сколько герменевтические ориентиры.
В качестве отправной точки можно вспомнить «Марс, вестник войны» Густава Теодора Холста в его симфонической сюите «Планеты» и прямолинейное истолкование этой музыкальной темы в фильме Кена Рассела (Ken Russell. «Holst:The Planets», 1983) посредством образов Третьего рейха, заимствованных у Лени Рифеншталь. Эзотерическая мистериальность оркестровой поэмы сведена здесь к пылающим зданиям, парадным маршам, штандартам и знаменам со свастиками, барабанному бою, массовым манифестациям милитаризма, устрашающим танкам и ракетам на Красной площади.
У Орлова иначе. При всей эстетике триумфализма, помпезности, фасада и строя, усиленных милитаристской атрибутикой, римский Марс для него н полном соответствии с античной традицией - один из древнейших италийских богов, покровитель плодородия и растительности, земледелия, полей, скота, превращенный Римом в бога войны и приравненный затем литераторами к греческому Арегу. Этот архаический слой мифологии прорастает и художестиенном универсуме Орлова самым неожиданным образом: скрытый за парадным искусством империи Марс свидетельствует о себе растительными образами идеологических гербариев или «архитектурных излишеств» сталинского ампира.
Орлов не занимался специальным исследованием римского культа Марса. Однако его интуитивное проникновение в логику мифа превращает наше знание античности
в путеводитель по его творчеству. Здесь мы попадаем в мир «семейных сходств» Людвига Витгенштейна, обнаруживая генетические связи не только близких, но и разнородных, порой амбивалентных элементов. При таком подходе Марс — это и структурный костяк имперской темы, и ее героическая оркестровка, и сама жизнь имперского мифа, и мистериальная тайна соблазна империи, влекущего сиянием блеска, яркости и красоты. В симулякрах имперского искусства Орлова подразумеваемый Марс символизирует силу влечения, энергию, активность, волю к полной победе, мужество, упорность, настойчивость, агрессивность. Вспомним: в эпоху империи Марс часто изображался на монетах, особенно популярных именно в армии, а его культу сопутствовали именования «победитель», «сражающийся», “расширяющий империю», «спутник Августа», «хранитель», «умиротворитель». Отождествленный с богами племенных общин, он наделялся эпитетами «царь света», «мудрый», «царь общины». Марс — отец легендарных основателей Ромула и Рема, вскормленных волчицей (тотемное животное!), покровитель римской мощи, доблести и славы. «Тотемы» и «Парадные портреты» Бориса Орлова — контаминации подобных подразумеваемых. К ним можно отнести боевой порядок торжественно выстроенных на Марсовом поле войск, исключительную симметрию колоннады коринфского ордера храма Марса Ультора (главной постройки форума Августа),вертикаль копья в римских статуях Марса, вообще доминанту ordo (ряд, порядок, строй), будь то ordines-штандарты римских легионов или — ордена, наши знаки отличий и наград. Все это — вместе с латинскимornamentum, означавшим не только украшение и наряд, но также снаряжение, вооружение, оружие, знаки отличия, награды, почести, хвалу и славу — основополагающая часть пластической риторики Орлова.
Назначение такой риторики не только в убеждающих демонстрациях взаимозависимости знака и формы, трансформаций знака под воздействием меняющейся формы или — изменений значений вещи через преобразования знаков. Для Орлова важны также возможности интерпретации знака. Поэтому, например, использование красного цвета в его скульптурах может прочитываться как отсылка к доминанте советской идеологии, однако тот же цвет может подразумевать и древнюю традицию символизма, которая видела в красном, алом, кармине преимущественные цвета Марса; о них, к слову, напоминает и Плутарх в рассказе о Ромуле, сыне Марса: «Царь стал одеваться в красный хитон, ходил в плаще с пурпурной каймой...» (Rom, XXVI). Конечно, работа Орлова с цветом подчинена не аллегорическим, но преимущественно выразительным, пластическим значениям, которыми и обусловлено скульптурное единство вещи и знака; однако это не отменяет рождения гипотез, направленных к понимающему усвоению. Впрочем, и знак, и пластическая форма в работах Орлова неотрывны от риторики гиперболических усилений, с помощью которых художник иронически эстетизирует ретроспективные установки, свойственные русскому искусству как советского, так и постсоветского времени. У самого Орлова образы, образцы и стили прошлого представлены подразумеваемыми цитатами, остроумные комбинации которых исключают «влипание» в стилизацию. «Метапозиция», позволившая соткать мифологическую сеть из демонстраций семейного родства мифов, дабы свободно распоряжаться наследием прошлого, не скрывает своей предпосылки — базисной связи искусства с игрой знаков. С одной стороны, речь идет о трактовке знака как элемента метафизики и одновременно элемента, подрывающего метафизику: назначение знака — замещать наличное в его отсутствии; с другой стороны — речь о законах и поэтике соединения знаков, о возможностях их типологии, о взаимообусловленности означающего и означаемого, о многообразии интерпретационных подходов.
Сам Орлов не принадлежит ни к адептам семиологии, ни семиотики. Поэтика знака у него неотделима от поэтики вещи, от ее конструкции, пластической структуры, от ее развития, вызревания. Пример — живописное истолкование скульптуры. Когда-то Микеланджело провел разделительную черту: «Я понимаю скульптуру как
а то, что делается посредством наложения, относится к живописи». Орлов принимает разграничение великого флорентинца и следует путем наложений. Однако делает он это вовсе не для того, чтобы придать своей скульптуре «живописность», но для того, чтобы подчеркнуть её связь с архитектурой: наложение — принцип пластический, цвет же — тонкая пленка на поверхности. Старинные правила отклоняются и дальше: «Скульптура должна быть привита архитектуре, как делают прививку дереву», — утверждал Эмиль Бурдель. У Орлова иначе; он не равняется на готические соборы. Архитектура у него привита скульптуре, перенесена в саму скульптуру, живет в ней и с ней единой жизнью. Отсюда ясность конструкции, предшествующей внешней форме, римская «фасадность», геометрическая лаконичность, оттененная орнаментальным декором.
Однако у Орлова и орнаментальность лишена традиционного значения. Она сближена с техниками риторических практик, основанных на сопоставительной комбинаторике подобий и признаков, стимулирующих процессы наложения значений. Пластический язык его скульптур как бы «сам собой» вовлекает язык описаний в игру с переходами от номинаций классов объектов к тропам и обратно. Притом членение тропов не поддается однозначной фиксации: например, идентифицирующие функции метонимии преобразованы в метонимически организованные знаки («бескозырка “Аврора”», «складки римского барокко», «орденские планки» и т.д.) легко обращаются в метафоры, допускающие фиктивность «реалистичных» соположений. В свою очередь, случаи буквального воспроизведения метафор скорее напоминают эмблематику, и требуется особое усилие художественного внимания, чтобы за ее схематикой открыть живые истоки остроумной выразительности. Легко заметить: подобные «мерцания» в риторике и поэтике художественных практик Орлова вполне соответствуют его стратегиям ремифологизации, подрывающим возможности историзации мифа. Сама же область мифического, стирающего претензии мифа на идеологическую аутентичность, согласно художнику, в конечном счете остается зависимой от рамочных контекстов. Контекст же, в свою очередь, зависим от нарратива, наделяющего поля контекстуальности собственными смыслами. И, конечно же, зависим от мифических содержаний повествования. Здесь круг замыкается; однако, подобно кругам на воде, не разрывается, а ширится, простираясь в новые пространства. И здесь каждый новый контекст вместе с новым повествованием открывает новое видение. Скульптурные инсталляции Орлова к такой миссии готовы. Даже в музейном контексте античного прошлого они открыты к тому, что Хайдеггер называл ситуацией «живого настоящего».
Зрителю остается лишь сделать ответный шаг навстречу.