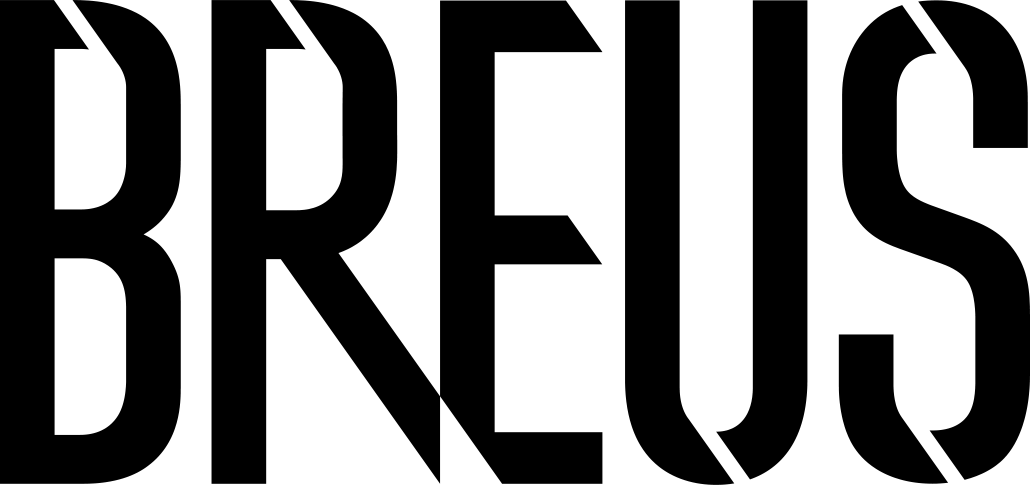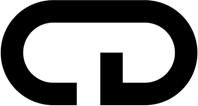КАК Я СТАЛ ХУДОЖНИКОМ
Я в своей жизни несколько раз становился художником. Сначала меня признали художником мои родители. Как только мне в руки попал карандаш, я сразу стал рисовать. У родителей не было со мной проблем. Чуть какие капризы, мне тут же давали лист бумаги, и все было в порядке.
– Художник, – с удовольствием признавали родители.
В детском саду у меня был специфический статус. Кажется, не все мои товарищи знали мое имя. Меня все называли Художник. Меня уважали и любили. Я рисовал с утра до вечера. Я был невероятно популярен. Ко мне стояла очередь за портретом. С моим приходом в группу у воспитательницы появилась возможность передохнуть. Это было время моего публичного существования. Я творил для народа и был любим народом. Я не рвался в лидеры, но лидеры разбивали друг другу носы за то, чтобы я принадлежал их команде. И уже тогда жизнь меня учила не обольщаться, а реально оценивать собственное значение, несмотря на все блага, которые я приносил своим существованием начальству в лице воспитательницы, в социальной иерархии детсада. Я занимал далеко не первое место. Однажды, накануне Нового года, нам раздавали костюмы для утренника. Как я мечтал быть моряком или летчиком, ну, на худой конец, футболистом! Но, увы, я прыгал зайчиком в кордебалете.
Чуть позднее я отыгрался. Демобилизованный дядя перешил для меня свою мичманку, и тогда лидеры валялись у меня в ногах за право поносить ее. Тогда я понял, что владеть собственностью важнее, чем иметь признание Художника.
Так уж повелось, меня и в школе называли Художник. Когда мне было 11 лет, я пришел в студию Дворца пионеров, что в переулке Стопани. Здесь со мной случился культурный шок. Все так здорово рисовали (как мне тогда казалось), и этих «всех» было так много, что я сразу перестал быть Художником. Я, наконец, стал просто Борей Орловым.
Потом наступил период, когда я не рисовал вообще. У меня появились другие планы на жизнь, совсем далекие от художеств. Но в 16 лет я опять вернулся в переулок Стопани, но на этот раз в скульптурную студию. Я опять захотел стать художником. Но теперь уже надо было этого добиваться. В группе процветал снобизм. Сначала требовалось стать интеллектуалом.
В Строгановском училище ситуация еще более ожесточилась. На моем факультете водилось всего несколько Художников, остальные были дерьмом. Но здесь, в училище, достаточно было ощущать себя художником, особого подтверждения делом не требовалось. Нужно было вести себя соответственно, но называть себя художником было неприлично. Все же, несмотря ни на что, мне удалось выбиться в элиту. Но как только я окончил Строгановку, сразу опять перестал быть Художником. Художников вокруг оказалось устрашающе много. Так много, что я впадал в отчаяние. Планка оказалась так высоко над головой, что я разбегался не один год, чтобы только сделать попытку ее преодолеть.
Только в начале семидесятых годов я посмел назвать себя художником, просто художником, когда мне удалось кое-что сделать, что было отмечено строгим вниманием моих товарищей и самим собой, страшней которого никого для меня не было. Когда я поверил в то, что уже «пора», мне было 30 лет.
СТАНОВЛЕНИЕ
Что такое ученический период для художника? Может быть, это время, когда он воспринимает от Мэтра некие тайные знания и пытается ими овладеть? А может быть, это период, когда он с чужой помощью или самостоятельно формирует и усложняет свой аппарат восприятия, учится переводить желаемое в визуальный результат, когда он выстраивает здание своей личности ипридает ему неповторимый образ, когда он учится сосредотачиваться и мобилизовать в нужный момент все свои силы и концентрировать свое внимание для того, чтобы из моря ненужного, но соблазнительного выбрать то, что мучает его своей невысказанностью, когда он учится скручивать потенциальную энергию как пружину, готовую к взрыву? Вот это и было моим ученическим периодом.
Это начиналось в Строгановском училище, когда я стал серьезно знакомиться с мировым и современным искусством и осознавать глубину проблем и степень своего ничтожества. Тогда я очень серьезно воспринял признание Родена: «до тридцати лет я работал только в яму». Это значит, много лет не сохранял свои работы. Я очень скоро на собственном опыте понял, какая толща страданий предшествовала становлению этого великого художника. Как-то в самом начале моего ученичества мой преподаватель Г.И. Мотовилов сказал мне мимоходом: «Если хочешь учиться по-настоящему, то иди в музей и учись у Донателло. Сравнивай то, что делаешь сейчас с тем, что видишь у него». С того дня на несколько лет моя жизнь превратилась в сплошное мучение, доводившее меня до желания все бросить и сменить профессию. Но я не представлял свою жизнь вне моего дела. Я очень скоро сообразил, что правил нет, во всяком случае, для меня. Все решает воля. Вопрос «что делать?» стоял столь же мучительно, как и «какими средствами делать». Здесь я стал двигаться от обратного. Я отсекал «что не делать». Горизонт был необъятен, и надо было его сузить до определения своего «Я». Это был довольно долгий путь проб и, преимущественно, ошибок.
Наконец, меня осенило – тема напряжения, ожидания прорыва – и есть моя тема. Этому предшествовала не только работа за станком и в музее, но и напряженное чтение философской литературы. Особенно меня по разили рассуждения Кьеркегора. После этого я погрузился в экзистенциальное чтиво. Более всего меня увлекало русское крыло этого течения мысли в лице Н. Бердяева и Л. Шестова. Я тогда прочитал из них все, что возможно было достать. Они, кроме всего, научили читать Толстого и Достоевского, понимать Ницше. Тогда я с большой пользой для себя открыл его книгу «Рождение трагедии из духа музыки». Релятивизм Шестова оказался тем рычагом, которым можно было сдвинуть тогда окаменевшие доктрины, в том числе и в искусстве. Это была философия свободы.
В тот напряженный период рубежа шестидесятых-семидесятых годов, который я называю для себя временем «Волшебной горы» (название любимой мною в ту пору книги), я сделал ряд работ, которые после серьезной прополки сохранил.
Это, прежде всего, десять композиций в сферическом пространстве и первый «Бюст в духе Растрелли. (Император)».
КОНЕЦ «ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ»
1974–1975 годы были временем большого взрыва в московском искусстве, взрыва по масштабам революционного.
Мотивация, приведшая меня и моего тогдашнего друга и соратника Д. Пригова к революционному порогу, была несколько иной, чем у Комара и Меламида, называвшими себя группой «Соц-арт». Для нас важнее была не реакция на соцреализм, как на тотальную доктрину советского искусства, а реакция на экзистенциализм, господствовавший тогда на мировой сцене и захвативший умы лидеров художественного сообщества андерграундной Москвы.
Это были очень крупные художники: Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров, В. Янкилевский и ряд других более молодых, к коим принадлежал и я. В Москве идеи экзистенциализма гнездились, в основном, в среде художников, в отличие от Запада, где они захватили литературу, театр и кино. В условиях беспредельного насилия над личностью героическая философия противо стояния была здесь особенно востребована. Русская сфера «das Man», в отличие от западной, являлась не только сферой тотального отчуждения, сколько сферой угрожающей физическому существованию личности. Вопрос «Как жить?» и «Как выжить?» заставлял личность искать точку опоры. Наши художники-экзистенциалисты нашли эту точку в романтическом противостоянии внешнему миру как «мороку».
Романтическая героика – достояние юношеского периода развития личности. К 1974 году мы с Приговым с ужасом увидели перепроизводство и девальвацию экзистенциального продукта по всей Москве. Мы взрослели, и нам уже требовалось противостояние трезвое и аналитическое. Столкнувшись в описываемое время с перепроизводством «духовности», мы стали испытывать что-то вроде удушья и захотелось пошире распахнуть форточку. И вот, в это распахнутое окно ворвалось бесчисленное множество языков, целое вавилонское столпотворение. Вертикаль в нашем сознании начала стремительно обрушиваться, и мы оказались среди гигантской свалки социальной горизонтали, которая требовала раскопок, расчленения, изучения и инвентаризации.
Это открывшееся многоязычие сулило невероятные возможности для немыслимых прежде комбинаций. Интересно все, как высокое, так и низкое, а их столкновение высекало целые фейерверки искр. Жизнь наших старших товарищей стала восприниматься нами как хождение на котурнах по тщательно вымытому полу, а претензии их на последнюю истину мы тут же заменили на истину «предпоследнюю». «Профанный» язык уже перестал казаться презренным. Запахло релятивизмом. Чистота стиля стала ненужным препятствием. Мы сменили исповедальную, монологическую позу художника на позицию художника-сценографа. Столкновение мифов и антимифов, высокого и низкого, элитарного и обрыдлого для художника-сценографа, изучающего и играющего, сулило невыразимое наслаждение. Сколько счастливых минут мы пережили с Приговым в те семидесятые годы, когда мы кинулись, очертя голову, в плавание по совсем неведомым водам. Мы уже перестали говорить и мечтать о свободе, как в предыдущую пору.
Мы наслаждались свободой.