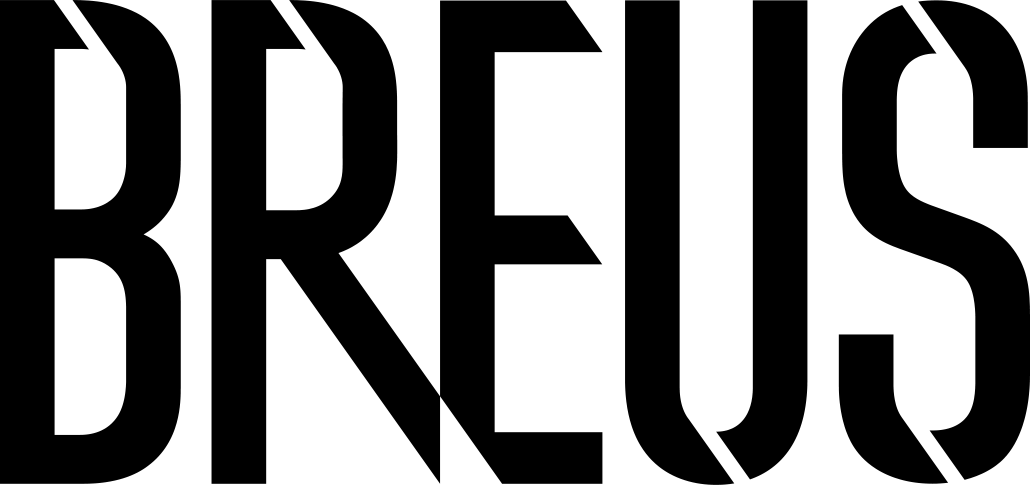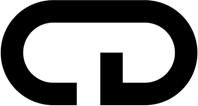Художественное движение, которое в 1980 году окончательно оформилось под общим названием соц-арт, родилось в начале 70-х годов в кругу художников-выпускников Строгановского художественного училища. Поначалу оно провоцировалось разными мотивациями, в дальнейшем они слились в некое единство.
Первая группа это Комар и Меламид с учениками, сам термин «соц-арт» это название их группы. Вторая - Соков и Косолапов, оба скульпторы; третья - Орлов, Пригов и Лебедев.
Комар и Меламид написали манифест. Я и Пригов манифеста не писали принципиально. Я считал, что манифесты это рудимент эпохи «измов».
Я опишу путь, по которому мы с Приговым прошли к этому радикальному повороту в нашей художественной биографии, чтобы было ясно, что ничто просто так не возникает, и у всякого следствия есть своя причина.
Диспозиция на художественном поле к концу 60-х была следующая: с одной стороны – официальное искусство социалистического реализма, с его тоталитарным академическим и идеологическим регламентом. С противоположной – андеграунд, как протестное образование, возникшее на фоне политической «оттепели».
Искусство соцреализма в своей эстетической доктрине заявляло себя как конец истории, как итог всего исторического развития искусства и противопоставляло себя «загнивающему» историзму Запада. Андеграунд начала 60-х выступал, прежде всего, против академии и благодаря наставлениям Ницше «Будьте как дети» балансировал на грани дилетантизма в пылу протестного азарта. В позитивном векторе андеграунд восстанавливал разорванные связи в истории отечественного искусства. Это был героический этап возврата в историю.
Что касается социализации, то андеграунд первой поры был разбит на небольшие, замкнутые на самих себя группы, похожие скорее на квазирелигиозные группы со своими учителями – гуру. Одним из наиболее известных подобных гуру был Михаил Шварцман. Я называю это раннее движение стихийным экзистенциализмом, ставящим во главу угла свободу отдельной личности. Это было актуально на фоне доминирующего в обществе коллективизма.
К концу 60-х годов экзистенциальный дискус разделился, и в противовес стихийному возникает концептуальный экзистенциализм. Его формируют интеллектуальные художники из группы «Рождественский бульвар», это художники, базирующие свое искусство на экзистенциальной философии. Это был Владимир Янкилевский, впервые в 1962 году введший в обиход термин «экзистенциум», Илья Кабаков, наш первый философ-абсурдист, Эрик Булатов, Олег Васильев, московский Кьеркегор Виктор Пивоваров, светоносец Николай Касаткин и молодой Сергей Шаблавин.
Пара Борис Орлов и Дмитрий Пригов существовала независимо. Эти двое были страстно увлечены философией русского экзистенциализма. Благодаря философу и просветителю, нашему тогдашнему современнику Пиаме Гайденко мы познакомились с эстетической концепцией Хайдеггера и других философов-экзистенциалистов. Русские экзистенциалисты Бердяев и Шестов почти в полном объеме стояли на наших полках. Шестов открыл нам Кьеркегора, прочитал заново Достоевского и Толстого – как экзистенциалистов. Мы прочли Камю, Сартра, Ионеско, познакомились с творчеством Беккета и Бергмана.
К 1974 году, когда андеграунд после «Бульдозерной» выставки и ряда открытых квартирных выставок вышел на поверхность и сделался параллельной культурой, независимой от политического противостояния, мы уже чувствовали себя частью большого исторического процесса. Внезапно открывшееся нам художественное поле во всей полноте поразило переизбыточностью метафизики до такой степени, что мы задыхались в этом окружении. Тогда-то это повальное увлечение трансцедентальным мы назвали «духовкой».
Благодаря тому, что я и Пригов работали тогда в одной мастерской, мы каждодневно дискутировали на тему как быть дальше. Первое, что мы решили, это отказаться от трансцедентальной вертикали, которая уже, как казалось нам, угрожала новой несвободой. Второе, на что нужно было решиться, это реабилитировать так называемую «профанную сферу», вернуть ее в обиход как вместилище множества языков. И, как следствие, отказаться от системы моноязыка в пользу системы полиязыка. Мы назвали тогда новый дискус «полистстемой».
Тут сразу же встал вопрос, где находится авторский голос, не исчезнет ли он в полиязычном хаосе? Авторский голос должен быть вынесен за скобки текста. Что это значит? Это значит, что художник должен поместить свое пребывание в некую метапозицию, откуда он, как кукловод в театре марионеток, может видеть одновременно всех действующих лиц, создавать мизансцены и управлять множеством голосов.
Таким образом, в противовес исповедальному единоголосию экзистенциального принципа внедрялась система множества голосов, стилей от самого высокого до самого низкого.
Автор не высказывается напрямую, уклоняется от лобовых решений, но создает конфликты, открывающие возможность для самой широкой интерпретации и провоцирующие сотворчество.
Как только мы отказались от вертикали и погрузились в социальную горизонталь, то увидели, что доминирующим голосом на социальной сцене был голос агитации и пропаганды коммунистической идеологии, голос центральных газет, радио и телевидения, а так же громадная толща искусства соцреализма, праздничных шествий и военных парадов.
А дальше пошли в оборот профессиональные сленги, анекдоты, как фольклор, всякого рода речевые штампы и много всего еще из вчера еще презренной так называемой сферы «man». На ловца и зверь бежит: тут же под рукой оказалась недавно переизданная книга исследователя карнавальной культуры Бахтина. В этом векторе обосновался более других Леонид Соков.
У Пригова раньше других проявлялся интерес к сценографии. Сначала это касалось конкретно сцены, в 1973 году в студенческом театре МГУ он поставил свою пьесу «Гамлет», где гротескно столкнул язык Шекспира с бытовым сленгом. В 74-м-75-х годах он выдал серию листов, выполненных на печатной машинке, где выстроил более сотни текстовых мизансцен с гротескной смысловой и визуальной драматургией. Эта серия называлась «Текстография».
Я же делаю так называемые «Иконостасы» и аллеи героев, где в ход идет все: античные маски, ассамбляжи, производственные плакаты; сталкиваю идеологический верх с анекдотическим низом.
В это же время Комар и Меламид делают свои первые псевдополитические преформансы.
В середине 70-х они пишут самую программную свою картину «Встреча Солженицына и Бёлля на даче Ростроповича». Здесь в классическую конструкцию картины соцреализма имплантируется много всего от древнерусской живописи до множества всяких «измов» двадцатого века.
Пока еще термин «соц-арт» - это бренд творческого союза Комара и Меламида. К концу 70-х я делаю серию Парсун, и называю этот опыт «социальной геральдикой». Здесь я в конструктивистскую основу рельефа внедряю импланты из военной и спортивной геральдики. Для Лебедева главным объектом внимания становится праздничное оформление города.
Восьмидесятые годы - это героический период соц-арта. В это время, благодаря стараниям Маргариты Тупициной термин соц-арт распространяется на все движение, которое фактически было предвестием постмодернизма.
Именно в эти годы Комар и Меламид делают свой грандиозный проект «Ностальгический реализм». Здесь они выступают как художники мистификаторы. Они как бы заполняют существующую брешь в станковом изобразительном искусстве сталинской поры. Сталинский проект как имперский осуществлялся в своей полноте только в архитектуре и монументальной пластике. Комар и Меламид как в машине времени возвращаются в 30-40-е годы, скрещивают соцреализм с наполеоновским ампиром. Получился гротескный гибрид, результат карнавальной связи А. Герасимова с Л. Давидом. В конце 80-х они делают впечатляющий проект, показанный в Бруклинском музее. Там в большом пространстве происходит фантастическое столкновение разных стилей. Здесь их уже множество.
В это время я начинаю большой имперский проект. Назначаю себя главным имперским художником страны. О Советском Союзе как империи у нас в это время говорить не смели. Идеология была весьма лицемерна. Комар и Меламид выдумывают ролевые игры как один из приемов первого творческого метода. Они неоднократно выступали от лица выдуманного героя. Этот прием был подхвачен много позже Ильей Кабаковым. Я, подобно актеру-травести, тоже стал петь чужим голосом. Все восьмидесятые я занимался созданием большого имперского стиля.
С этого времени я ухожу от классического карнавального соц-арта. Я погружаюсь в аналитизм, исследую архетипы и архимодели искусства, и не только имперского, но и всех репрезентативных явлений в мировом искусстве вплоть до анимистических Тотемов и средневековых гербов. В результате получился некий синтетический продукт.
В заключении можно сказать, что художники этого направления занимались очень разными вещами. Хотят эти художники или нет, но термин соц-арт объединил их помимо их воли. Видимо, в этом есть историческая необходимость. Это направление исторической цепи перемен предложило свой радикальный, отличающийся от предыдущего творческий метод. Это, во-первых, переход моносистемы к полисистеме, использование приемов гротеска, нарочитых гипербол; приемов травести, стилевой и смысловой конфликтности, и, конечно, как одно из главных – это внедрение в авторский текст иронии и самоиронии.
Живя в позднесоветское время, мы остро ощущали в себе двоемыслие, и как следствие – двуязычие. Легко переходили из одной системы изъяснений в другую, и ключом перехода служила ирония. Мы вдруг открыли, что ирония – это тоже экзистенциальная зона свободы. Одновременно ирония разрывала уже мешающую замкнутость экзистенциальной метафизики. Ирония и оказалась той самой метапозицией, которая позволяла художнику погружаться в сферу «man», то есть «профанную сферу», и выходить из неё с добычей без ущерба для собственной независимости.
Опыт соц-арта пока еще недостаточно исследован искусствоведами, а беспощадное время предлагает все новые и новые углы зрения.